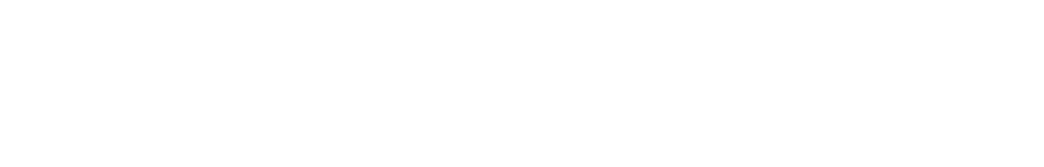В ТАТАРСТАНЕ ЕСТЬ САМОБЫТНОСТЬ, ЕЁ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ
БУЛАТ ИБРАГИМОВ
БУЛАТ ИБРАГИМОВ
В ТАТАРСТАНЕ ЕСТЬ САМОБЫТНОСТЬ, ЕЁ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ
Булат Ибрагимов был шеф-поваром «Квартиры 63», потом с партнёрами делал ресторан современной татарской кухни «Кама». Потом уехал в Москву и возглавил кухню ресторана «Южане». А вернувшись в Казань, открыл гастрономическое бистро «Артель».
Я определился с тем, чего я хочу в жизни и кто я такой, совсем недавно, понимаешь. То есть до этого как бы было такое свободное падение, можно сказать, свободный полёт. Непонятно, в каком векторе.
Детство моё было такое, знаешь, не сказать чтобы оно было каким-то особенным. Вот. Оно было таким обычным детством советского ребёнка. Ну то есть я родился в 90-м году. Родился в Казани.
Детство моё было такое, знаешь, не сказать чтобы оно было каким-то особенным. Вот. Оно было таким обычным детством советского ребёнка. Ну то есть я родился в 90-м году. Родился в Казани.
Я родился недоношенным. совсем маленьким. Кило шестьсот всего. В моём существовании очень долго сомневались.
Вся семья, кроме бабушки, там, и мамы, сомневалась, вот. Но вопреки всему и благодаря врачам я выжил, выкарабкался.
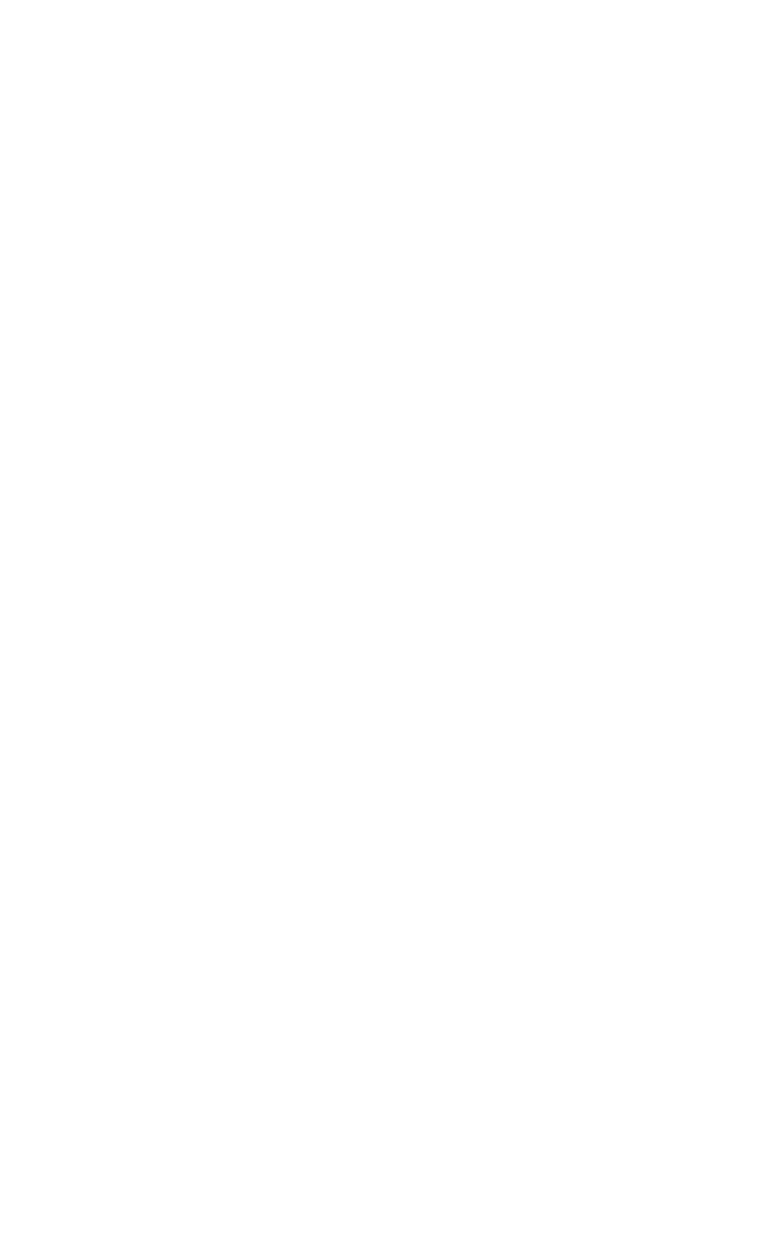
Вообще я был вторым ребёнком, то есть я родился, когда моей сестре было три с половиной года. Там была жуткая ревность. Самая такая вот разница, и сестра меня очень долгое время ненавидела. Ну своей детской ненавистью и ревностью. Вот.
Я из семьи врачей таких самых классических, обычных, простых. Мои родители в 80-х поступили в институт, когда был Советский Союз. Тогда быть врачом было очень престижно.
Мы жили с бабушкой, папиной мамой, в её квартире на улице Ибрагимова. Я вырос на улице Ибрагимова. У меня дедушка работал на вертолётном заводе, вот, и им там дали квартиру, на Ибрагимова.
Я был маленьким, когда был 2000-й год, миллениум, мне было, сколько там, 10 лет. Я, конечно, помню, что до нулевых годов у нас ничего не было, жили достаточно бедно. Вот. Ну как: конечно, не то чтобы нечего было есть…
Моя мама имеет такую как бы суперспособность — окружать куполом семью, чтобы туда ничего не пробралось, ну то есть в хорошем смысле. И поэтому как-то мы с сестрой росли в такой заботе постоянной. Мы как бы не имели каких-то особенных там излишков, но и никогда ни в чём не нуждались.
Мама с папой всегда очень много работали, и, пожалуй, моё нынешнее трудолюбие — оно напрямую связано с этим.
Я из семьи врачей таких самых классических, обычных, простых. Мои родители в 80-х поступили в институт, когда был Советский Союз. Тогда быть врачом было очень престижно.
Мы жили с бабушкой, папиной мамой, в её квартире на улице Ибрагимова. Я вырос на улице Ибрагимова. У меня дедушка работал на вертолётном заводе, вот, и им там дали квартиру, на Ибрагимова.
Я был маленьким, когда был 2000-й год, миллениум, мне было, сколько там, 10 лет. Я, конечно, помню, что до нулевых годов у нас ничего не было, жили достаточно бедно. Вот. Ну как: конечно, не то чтобы нечего было есть…
Моя мама имеет такую как бы суперспособность — окружать куполом семью, чтобы туда ничего не пробралось, ну то есть в хорошем смысле. И поэтому как-то мы с сестрой росли в такой заботе постоянной. Мы как бы не имели каких-то особенных там излишков, но и никогда ни в чём не нуждались.
Мама с папой всегда очень много работали, и, пожалуй, моё нынешнее трудолюбие — оно напрямую связано с этим.
Я был предоставлен сам себе с какого-то раннего возраста. Когда я ещё ходил в садик, не стало бабушки. Она умерла от рака. Ну я тогда не знал, что это такое вообще. Она просто начала болеть, отказалась от операции. Как я потом выяснил, её можно было спасти. Она тоже была врачом, вот. В один день её просто не стало. Ну это было, конечно, тяжело. Я был маленьким, у меня была бабушка — потом её резко не стало в один момент. И потом мы как-то начали жить вчетвером: мама, папа, я и сестра.
Учился я в 122-ой гимназии. Это была школа не по месту жительства: мама с папой всегда хотели для нас лучшей доли — лучшей, чем у них — старались нас направить в правильное русло. Отдали в одну из самых престижных тогда школ — гимназия с углублённым изучением английского языка. Там очень хорошие преподаватели были. Была великолепная директриса, Жанетта Абрамовна, очень крутая была женщина. Мудрый руководитель, при ней школа процветала, её все очень любили, и родители, и учителя любили как бы. Ну а я был маленьким, ничего не понимал, для меня она была просто большой тучной женщиной, около кабинета которой воняло куревом, потому что она курила сигары.
И с нами там учились, скажем так, дети с социальным статусом чуть выше, чем мы. Хотя на самом деле мы сильно не различались.
Школа для меня — это как бы, с одной стороны, это было что-то такое промежуточное. Блин, как бы это объяснить, это сложно, правда... Просто в один прекрасный момент я отсёк свою жизнь на «до» и «после». Школа осталась «до», и всё, что «до», я перестал анализировать.
— Что разделило на «до» и «после»?
— Смерть отца, наверное. И, наверное, приезд обратно в Казань.
— Сколько тебе было тогда?
Это было вот в 2019 году. Отца не стало в 18-м. И вот 17-19-ый год, когда я жил в Москве — это была как бы черта, которую я так провёл.
И вот ну школа… Ну, это была хорошая школа. Но я не считаю, хотя, может быть, я не прав, что школа настолько влияет на становление тебя, если это не какая-нибудь частная школа в каком-нибудь Университете Берна, знаешь, или Лиге плюща, где ты учишься с детьми сенаторов, условно говоря.
Хотя многие из этой школы сейчас уехали за границу, кто-то чего-то добился или добивается сейчас — как раз тот возраст, когда карьера идёт в гору у людей. Ну, так принято считать.
К сожалению, из школы мало с кем общаюсь. То есть у меня есть друг очень хороший, подруга очень хорошая — такие самые крепкие связи остались. А те, которые были некрепкие, они разорвались, сломались окончательно. Из своего класса я ни с кем не общаюсь.
Учился я в 122-ой гимназии. Это была школа не по месту жительства: мама с папой всегда хотели для нас лучшей доли — лучшей, чем у них — старались нас направить в правильное русло. Отдали в одну из самых престижных тогда школ — гимназия с углублённым изучением английского языка. Там очень хорошие преподаватели были. Была великолепная директриса, Жанетта Абрамовна, очень крутая была женщина. Мудрый руководитель, при ней школа процветала, её все очень любили, и родители, и учителя любили как бы. Ну а я был маленьким, ничего не понимал, для меня она была просто большой тучной женщиной, около кабинета которой воняло куревом, потому что она курила сигары.
И с нами там учились, скажем так, дети с социальным статусом чуть выше, чем мы. Хотя на самом деле мы сильно не различались.
Школа для меня — это как бы, с одной стороны, это было что-то такое промежуточное. Блин, как бы это объяснить, это сложно, правда... Просто в один прекрасный момент я отсёк свою жизнь на «до» и «после». Школа осталась «до», и всё, что «до», я перестал анализировать.
— Что разделило на «до» и «после»?
— Смерть отца, наверное. И, наверное, приезд обратно в Казань.
— Сколько тебе было тогда?
Это было вот в 2019 году. Отца не стало в 18-м. И вот 17-19-ый год, когда я жил в Москве — это была как бы черта, которую я так провёл.
И вот ну школа… Ну, это была хорошая школа. Но я не считаю, хотя, может быть, я не прав, что школа настолько влияет на становление тебя, если это не какая-нибудь частная школа в каком-нибудь Университете Берна, знаешь, или Лиге плюща, где ты учишься с детьми сенаторов, условно говоря.
Хотя многие из этой школы сейчас уехали за границу, кто-то чего-то добился или добивается сейчас — как раз тот возраст, когда карьера идёт в гору у людей. Ну, так принято считать.
К сожалению, из школы мало с кем общаюсь. То есть у меня есть друг очень хороший, подруга очень хорошая — такие самые крепкие связи остались. А те, которые были некрепкие, они разорвались, сломались окончательно. Из своего класса я ни с кем не общаюсь.
В 17 ЛЕТ Я БЫЛ ОБЛАКОМ ИЗ КАКИХ-ТО МЫСЛЕЙ, ЭМОЦИЙ, НИЧЕГО НЕ ХОТЕЛ ОТ ЖИЗНИ. ВООБЩЕ Я БЫЛ АБСОЛЮТНО ПУСТЫМ МЕСТОМ, ПРАВДА.
У меня были какие-то там вкусы в литературе… Я считал себя необычным человеком, типа неформалом, тогда это было расхожее слово, катался на скейте, слушал рок и так далее.
— А где в то время в Казани катались на скейте?
— На «плошке», на Площади Свободы, в Парке победы. Это было прикольно, конечно, мы собирались вечерами. На самом деле ни хрена не катались, а просто тусили. Общались, пиво пили. Вот. Это была социализация какая-то. То есть соцсети тогда только появились. «Соцсетью» была «плошка», где все друг друга знали. Разговаривали там, делились.
Был ЖЖ ещё. Вот, да. Я очень много сидел в жж, аське, я ещё помню MTV старый, вот про который снимал Дудь.
— Кого читал в ЖЖ?
— Читал в ЖЖ… Не помню… Ну, во-первых, я друзей читал. Потом уже там были известные какие-то чуваки. Сначала читал друзей, друг друга читали, жесть какую-то там. Свой какой-то пубертатный высер.
— Ну это важно, кстати.
— Ну да. Потом уже популярных блогеров читал. Я какое-то время увлекался фотографией. Был подписан на всех крутых фотографов. И не только фотографов. Рекламщиков, гламурных фотографов. На этого ещё, как его зовут... Короче, он снимал всю эту клюкву московскую, тусовочку кокаиновую. У него фамилия Зверков, а имя не помню. Ну, короче, знаменитый. Его читал и думал: «Вау, вот же люди живут интересно».
— В каком жанре ты снимал? Что снимал?
— Портреты, наверное, и нравилась репортажная съёмка, я тогда снимал на плёнку. У меня остались плёнки, я до сих пор там что-то иногда снимаю.
— В Казани сложно на плёнку снимать? Ну, с проявкой возиться?
— Я умею чёрно-белую пленку сам проявлять.
— А, ты дома проявляешь?
— Да, а цветную вот плёнку отправлять надо в Москву на проявку. Слушай, про фотографии можно вообще отдельно даже поговорить.
— А где в то время в Казани катались на скейте?
— На «плошке», на Площади Свободы, в Парке победы. Это было прикольно, конечно, мы собирались вечерами. На самом деле ни хрена не катались, а просто тусили. Общались, пиво пили. Вот. Это была социализация какая-то. То есть соцсети тогда только появились. «Соцсетью» была «плошка», где все друг друга знали. Разговаривали там, делились.
Был ЖЖ ещё. Вот, да. Я очень много сидел в жж, аське, я ещё помню MTV старый, вот про который снимал Дудь.
— Кого читал в ЖЖ?
— Читал в ЖЖ… Не помню… Ну, во-первых, я друзей читал. Потом уже там были известные какие-то чуваки. Сначала читал друзей, друг друга читали, жесть какую-то там. Свой какой-то пубертатный высер.
— Ну это важно, кстати.
— Ну да. Потом уже популярных блогеров читал. Я какое-то время увлекался фотографией. Был подписан на всех крутых фотографов. И не только фотографов. Рекламщиков, гламурных фотографов. На этого ещё, как его зовут... Короче, он снимал всю эту клюкву московскую, тусовочку кокаиновую. У него фамилия Зверков, а имя не помню. Ну, короче, знаменитый. Его читал и думал: «Вау, вот же люди живут интересно».
— В каком жанре ты снимал? Что снимал?
— Портреты, наверное, и нравилась репортажная съёмка, я тогда снимал на плёнку. У меня остались плёнки, я до сих пор там что-то иногда снимаю.
— В Казани сложно на плёнку снимать? Ну, с проявкой возиться?
— Я умею чёрно-белую пленку сам проявлять.
— А, ты дома проявляешь?
— Да, а цветную вот плёнку отправлять надо в Москву на проявку. Слушай, про фотографии можно вообще отдельно даже поговорить.
Фотографии, снятые Булатом на плёнку в Москве и Новом Орлеане
Вот, а после школы я представлял из себя ничего, потому что я долгое время учился в химико-биологическом классе, пытался готовиться участвовать в каких-то внеклассных занятиях по биологии, по химии, что-то даже знал, и у меня было только одно желание — учиться в мединституте.
— Как родители?
— Да, как папа, я смотрел на папу и хотел быть, как он. Отец у меня работал всю жизнь в неотложной хирургии 12-ой городской больницы. То есть потом он перешел в 11-ую, в плановую хирургию. Плановая хирургия — среди хирургов их принято называть «мясники» — это не medical diagnosis, то есть они не ставят диагноз, они просто режут. Ремесло такое. Вот.
— Как родители?
— Да, как папа, я смотрел на папу и хотел быть, как он. Отец у меня работал всю жизнь в неотложной хирургии 12-ой городской больницы. То есть потом он перешел в 11-ую, в плановую хирургию. Плановая хирургия — среди хирургов их принято называть «мясники» — это не medical diagnosis, то есть они не ставят диагноз, они просто режут. Ремесло такое. Вот.
А неотложная хирургия — это самая настоящая игра с богом. Очень тяжёлая работа. Одна из самых, наверное, тяжёлых в мире.
И как бы от этого, конечно, много алкоголя. Вот. И женщин... И прочее. Есть у неотложной хирургии пороки. И они у хирургов налицо. В хорошем смысле. Это такая, знаешь, хемингуэйщина: дерёшься, а потом пишешь, условно говоря. Он очень много работал, дежурил, получал там не очень много. В Америке, например, такие хирурги получают несколько сотен тысяч долларов в год. Ну там тоже есть минусы в американской системе здравоохранения, но у врачей там все хорошо: они живут там в особняках, ездят на кадиллаках.
Но родители мне просто запретили идти в медицину.
— Чем они это объяснили?
— Объяснили тем, что я буду жить так же, как они, понимаешь, то есть бедность. Вот. Просто в какое-то время, когда я ещё в школе учился, мама ушла в частную клинику. Она была заместителем главного врача в больнице, в которой они работали с папой. И после этого она ушла в частную клинику. И тогда в семье были хоть какие-то деньги. Начали появляться. И когда папа ушёл в плановую хирургию, там тоже, видимо, платили больше.
И вот родители мне запретили быть врачом, аргументируя это ещё и постоянным стрессом. Отец был постоянно в стрессе. Правда иногда тяжело было. В семье вообще была напряжённая обстановка. Там, папа пришел злой с дежурства — мог накричать. Огромное количество негативной энергии копилось, и она никуда не уходила. Алкоголь вот тот же самый эти проблемы решал.
И я такой: «Ладно, окей».
И вот в классе в 9-10 я даже пытался поступить в лицей Лобачевского. Сдать физику. У меня вообще были проблемы с точными науками, и до сих пор, наверное, проблемы с точными науками. У меня было плохо с физикой.
— Так, в медицину запретили. А в лицей хотел поступать, чтобы что, получается?
— Я не знаю, я даже не помню, знаешь. У меня сестра ушла после 9 класса в физико-математический лицей с углублённым изучением физики и математики, естественных и точных наук. А у нас это была гуманитарная школа, вот… Вообще сестра как бы такая в семье была, как это говорится, звёздочка.
— Ты сказал, что в детстве она тебя ненавидела. Сейчас какие отношения?
— Сейчас мы друзья, то есть она, когда я ещё учился в школе, уехала жить в Америку — учиться в институт. Вышла замуж за американца, вот. Ну это было по любви, и там она нашла работу, начала опять учиться, у неё сейчас диплом MBA, причём она училась в University Rice в Техасе, в Хьюстоне, это там один из самых топовых университетов юга.
Сестра очень умная, очень способная, а я какой-то был... У меня были какие-то очень сложные душевные настройки сами по себе, то есть я такой был типа творческий человек, понимаешь? У меня вообще голова состоит как бы из неких таких импульсов, то есть я полная противоположность человека, который работает в IT, например, можно так сказать.
У меня есть дядя, он геолог-нефтяник, мамин старший брат. И вот он добился каких-то успехов, нефтяная промышленность она вообще в принципе как бы приносит деньги, и мне родители хотели бы, видимо, такой же доли. Во мне как бы, ну, всегда родители видели какой-то там потенциал — и он действительно, наверное, был — и они мне сказали: «Ты поедешь в Москву учиться, в нефтяной институт».
В общем, я тогда экспресс-способом готовился к ЕГЭ по физике и по математике с репетитором. Ну вот как-то я эти ЕГЭ сдал.
— Получается, это выбор родителей. Не было у тебя бунта какого-то внутри?
— Бунт был потом.
Бунта не было сначала, потому что я такой, типа, ну классно — поеду учиться в Москву. Мне хотелось уехать из Казани, я понимал, что очень много всего есть вокруг, а в Казани ни хрена нет. И я не хотел здесь оставаться жить, как мои одноклассники, довольствоваться тем, что у меня есть. Я хотел чего-то достичь в жизни и как бы поехал в Москву — запах свежего, короче говоря. Как какой-нибудь европеец-полупреступник высаживался на острове, как он назывался, ну, короче, в Нью-Йорке, понимаешь, как итальянский чувак, который вдыхал запах свободы в Америке — вот такой я был, когда приехал в Москву.
— Сколько ты вот так вдыхал его, первое ощущение от города?
— Первые два года, наверное, было так.
Я точно помню своё первое занятие по математическому анализу в университете.
Но родители мне просто запретили идти в медицину.
— Чем они это объяснили?
— Объяснили тем, что я буду жить так же, как они, понимаешь, то есть бедность. Вот. Просто в какое-то время, когда я ещё в школе учился, мама ушла в частную клинику. Она была заместителем главного врача в больнице, в которой они работали с папой. И после этого она ушла в частную клинику. И тогда в семье были хоть какие-то деньги. Начали появляться. И когда папа ушёл в плановую хирургию, там тоже, видимо, платили больше.
И вот родители мне запретили быть врачом, аргументируя это ещё и постоянным стрессом. Отец был постоянно в стрессе. Правда иногда тяжело было. В семье вообще была напряжённая обстановка. Там, папа пришел злой с дежурства — мог накричать. Огромное количество негативной энергии копилось, и она никуда не уходила. Алкоголь вот тот же самый эти проблемы решал.
И я такой: «Ладно, окей».
И вот в классе в 9-10 я даже пытался поступить в лицей Лобачевского. Сдать физику. У меня вообще были проблемы с точными науками, и до сих пор, наверное, проблемы с точными науками. У меня было плохо с физикой.
— Так, в медицину запретили. А в лицей хотел поступать, чтобы что, получается?
— Я не знаю, я даже не помню, знаешь. У меня сестра ушла после 9 класса в физико-математический лицей с углублённым изучением физики и математики, естественных и точных наук. А у нас это была гуманитарная школа, вот… Вообще сестра как бы такая в семье была, как это говорится, звёздочка.
— Ты сказал, что в детстве она тебя ненавидела. Сейчас какие отношения?
— Сейчас мы друзья, то есть она, когда я ещё учился в школе, уехала жить в Америку — учиться в институт. Вышла замуж за американца, вот. Ну это было по любви, и там она нашла работу, начала опять учиться, у неё сейчас диплом MBA, причём она училась в University Rice в Техасе, в Хьюстоне, это там один из самых топовых университетов юга.
Сестра очень умная, очень способная, а я какой-то был... У меня были какие-то очень сложные душевные настройки сами по себе, то есть я такой был типа творческий человек, понимаешь? У меня вообще голова состоит как бы из неких таких импульсов, то есть я полная противоположность человека, который работает в IT, например, можно так сказать.
У меня есть дядя, он геолог-нефтяник, мамин старший брат. И вот он добился каких-то успехов, нефтяная промышленность она вообще в принципе как бы приносит деньги, и мне родители хотели бы, видимо, такой же доли. Во мне как бы, ну, всегда родители видели какой-то там потенциал — и он действительно, наверное, был — и они мне сказали: «Ты поедешь в Москву учиться, в нефтяной институт».
В общем, я тогда экспресс-способом готовился к ЕГЭ по физике и по математике с репетитором. Ну вот как-то я эти ЕГЭ сдал.
— Получается, это выбор родителей. Не было у тебя бунта какого-то внутри?
— Бунт был потом.
Бунта не было сначала, потому что я такой, типа, ну классно — поеду учиться в Москву. Мне хотелось уехать из Казани, я понимал, что очень много всего есть вокруг, а в Казани ни хрена нет. И я не хотел здесь оставаться жить, как мои одноклассники, довольствоваться тем, что у меня есть. Я хотел чего-то достичь в жизни и как бы поехал в Москву — запах свежего, короче говоря. Как какой-нибудь европеец-полупреступник высаживался на острове, как он назывался, ну, короче, в Нью-Йорке, понимаешь, как итальянский чувак, который вдыхал запах свободы в Америке — вот такой я был, когда приехал в Москву.
— Сколько ты вот так вдыхал его, первое ощущение от города?
— Первые два года, наверное, было так.
Я точно помню своё первое занятие по математическому анализу в университете.
Это было занятие по матрицам, и я ни хрена не понимал. Понимаешь? Я вообще не понимал, о чем идёт речь.
Во первых, в ЕГЭ этого не было вообще. В школьной программе этого не было, это было только в углублёнке. Только в физико-математическом лицее. А у меня этого не было. Я понимал, что я вообще ничего не понимаю.
— А остальные?
— Ну там люди поднимали руки, что-то отвечали, они понимали, что такое матрица. Короче, это была жесть. Конечно, я потом понял её, но с трудом.
И вот поступил я, значит, в университет. Причём не в простой университет, а на самый престижный факультет самой престижной кафедры — по добыче нефти. Все топовые менеджеры многих престижных компаний — это инженеры по добыче нефти. Ну бывшие. Вот.
А потом как-то раз я узнал, что я, оказывается, поступил на платку. То есть я всё время думал, что учусь на бесплатном. Оказалось, что родители просто мне не говорили это, просто платили деньги. Это было неприятно, да. Узнал я это где-то очень поздно, на последних курсах.
— А остальные?
— Ну там люди поднимали руки, что-то отвечали, они понимали, что такое матрица. Короче, это была жесть. Конечно, я потом понял её, но с трудом.
И вот поступил я, значит, в университет. Причём не в простой университет, а на самый престижный факультет самой престижной кафедры — по добыче нефти. Все топовые менеджеры многих престижных компаний — это инженеры по добыче нефти. Ну бывшие. Вот.
А потом как-то раз я узнал, что я, оказывается, поступил на платку. То есть я всё время думал, что учусь на бесплатном. Оказалось, что родители просто мне не говорили это, просто платили деньги. Это было неприятно, да. Узнал я это где-то очень поздно, на последних курсах.
МЕНЯ ЭТО ЖУТКО ВЗБЕСИЛО, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАНОВИТЬСЯ ОБУЗОЙ, Я ПОНИМАЛ, ЧТО Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ ЭТИ ДЕНЬГИ.
А там обучение стоило 120-130 тысяч в год. Понимаешь? Это немало.
Для меня тогда это были какие-то невероятные деньги. Ну они и сейчас немаленькие. Вот, и ты знаешь, у меня уже вот в институте произошёл бунт. Я занимался чем угодно, кроме учёбы.
Сначала я честно старался учиться, потом я понял, что у меня правда очень плохо это получается, потому что это была не моя профессия с самого начала.
То есть я был таким как бы инженером, который прекрасно понимал, как всё происходит на уровне каких-то образов, эмоций, но я не мог это всё посчитать с точки зрения математики — а это как художник без рук.
Инженер, который не владеет математическими способами, не владеет математическим анализом и умениями описать явление, решать уравнения сложные, думать аналитически. Но хотя аналитическое мышление у меня было, но совсем другое.
— Интуитивно, может, ты это понимал?
— Да, да. Хорошее слово — интуитивно. Вот. Я был таким классическим троечником. Мои родственники всё время, ну, там, папины друзья, мамины друзья, они говорили: «Доучись. А потом всё будет хорошо». Ну потому что опять-таки по протекции какого-то там родственника меня бы отправили в какую-нибудь хорошую компанию, понимаешь, на какую-то престижную должность. Там бы, может быть, я себя показал. Потому что нефтянка в России… чтобы быть «хорошим инженером», не нужно знать математику, нужно быть каким-то изворотливым чуваком, вот.
— Мне интересно, что было после вот этого какого-то шока, когда ты узнал, что ты на платном. Что-то поменялось? Может, привело позже к какому-то решению?
— Это такой переломный момент, да. На третьем курсе начались специальные предметы, до 3 курса это был вообще мрак, предметы, нахрен никому не нужные. И вот начались специальные предметы, а я шёл параллельно потоку этих знаний.
Я занимался очень много всякой деятельностью в университете, всякой организацией научных конференций, всякой такой штукой, лекциями. Это было общество инженеров-нефтяников, оно так называлось, SPE — The Society of Petroleum Engineers.
Жил я в общаге, тоже очень хороший опыт для меня. То есть для меня после той жизни в общаге море было по колено. Были пьянки, вот, просыпался в чужих комнатах, или в чужом общежитии у каких-нибудь чуваков с журфака МГУ, которые просто бухали как не в себя.
— В общаге были какие-то персонажи, которые на тебя повлияли?
— На самом деле нет, наверное, я был тоже сам по себе. Ну то есть имею в виду сам себе на уме был всегда. Я всегда держался каким-то особняком, короче говоря.
— То есть вот совсем никто не восхищал тебя? Может, хотя бы не весь человек, а какая-то отдельная черта в ком-то нравилась, и ты перенимал это себе, например?
— Я всегда смотрел на людей, которые... Были люди, да, я вспомнил. Были люди. Было пару студентов со старших курсов. Чеченец, там. Он уехал куда-то за границу уже давным-давно работать. Были люди, которые очень хорошо учились, и в то же время они были просвещенными такими.
У меня ещё был друг Петя, одногруппник. Он очень классный чувак. Сейчас мы просто мало общаемся. Живём в разных городах. Ну и там был определенный момент переломный, когда я вообще мало с кем общался в университете. Был кризис.
Меня всегда тянуло к людям, которые были лучше меня, потому что с самого начала, ну как бы отец в меня вложил какую-то истину, он занимался боксом в молодости и в один момент он очень правильно мне сказал: «Когда я занимался боксом, я всегда дрался с теми, кто лучше меня». Очень помогает в жизни до сих пор, с одной стороны. С другой — как бы тоже образовался комплекс на фоне вот этих вот слов отцовских, ну это потом.
Я у них чему-то учился. Запоминал, как они разговаривают, пытался подражать в чём-то, и мне это нравилось. Ну как бы узнавал для себя какие-то новые слова, новую манеру речи.
Была девочка, которая уже гражданка Европы, Швеции, вроде. Уже очень долгое время.
Для меня тогда это были какие-то невероятные деньги. Ну они и сейчас немаленькие. Вот, и ты знаешь, у меня уже вот в институте произошёл бунт. Я занимался чем угодно, кроме учёбы.
Сначала я честно старался учиться, потом я понял, что у меня правда очень плохо это получается, потому что это была не моя профессия с самого начала.
То есть я был таким как бы инженером, который прекрасно понимал, как всё происходит на уровне каких-то образов, эмоций, но я не мог это всё посчитать с точки зрения математики — а это как художник без рук.
Инженер, который не владеет математическими способами, не владеет математическим анализом и умениями описать явление, решать уравнения сложные, думать аналитически. Но хотя аналитическое мышление у меня было, но совсем другое.
— Интуитивно, может, ты это понимал?
— Да, да. Хорошее слово — интуитивно. Вот. Я был таким классическим троечником. Мои родственники всё время, ну, там, папины друзья, мамины друзья, они говорили: «Доучись. А потом всё будет хорошо». Ну потому что опять-таки по протекции какого-то там родственника меня бы отправили в какую-нибудь хорошую компанию, понимаешь, на какую-то престижную должность. Там бы, может быть, я себя показал. Потому что нефтянка в России… чтобы быть «хорошим инженером», не нужно знать математику, нужно быть каким-то изворотливым чуваком, вот.
— Мне интересно, что было после вот этого какого-то шока, когда ты узнал, что ты на платном. Что-то поменялось? Может, привело позже к какому-то решению?
— Это такой переломный момент, да. На третьем курсе начались специальные предметы, до 3 курса это был вообще мрак, предметы, нахрен никому не нужные. И вот начались специальные предметы, а я шёл параллельно потоку этих знаний.
Я занимался очень много всякой деятельностью в университете, всякой организацией научных конференций, всякой такой штукой, лекциями. Это было общество инженеров-нефтяников, оно так называлось, SPE — The Society of Petroleum Engineers.
Жил я в общаге, тоже очень хороший опыт для меня. То есть для меня после той жизни в общаге море было по колено. Были пьянки, вот, просыпался в чужих комнатах, или в чужом общежитии у каких-нибудь чуваков с журфака МГУ, которые просто бухали как не в себя.
— В общаге были какие-то персонажи, которые на тебя повлияли?
— На самом деле нет, наверное, я был тоже сам по себе. Ну то есть имею в виду сам себе на уме был всегда. Я всегда держался каким-то особняком, короче говоря.
— То есть вот совсем никто не восхищал тебя? Может, хотя бы не весь человек, а какая-то отдельная черта в ком-то нравилась, и ты перенимал это себе, например?
— Я всегда смотрел на людей, которые... Были люди, да, я вспомнил. Были люди. Было пару студентов со старших курсов. Чеченец, там. Он уехал куда-то за границу уже давным-давно работать. Были люди, которые очень хорошо учились, и в то же время они были просвещенными такими.
У меня ещё был друг Петя, одногруппник. Он очень классный чувак. Сейчас мы просто мало общаемся. Живём в разных городах. Ну и там был определенный момент переломный, когда я вообще мало с кем общался в университете. Был кризис.
Меня всегда тянуло к людям, которые были лучше меня, потому что с самого начала, ну как бы отец в меня вложил какую-то истину, он занимался боксом в молодости и в один момент он очень правильно мне сказал: «Когда я занимался боксом, я всегда дрался с теми, кто лучше меня». Очень помогает в жизни до сих пор, с одной стороны. С другой — как бы тоже образовался комплекс на фоне вот этих вот слов отцовских, ну это потом.
Я у них чему-то учился. Запоминал, как они разговаривают, пытался подражать в чём-то, и мне это нравилось. Ну как бы узнавал для себя какие-то новые слова, новую манеру речи.
Была девочка, которая уже гражданка Европы, Швеции, вроде. Уже очень долгое время.
Они были просвещёнными людьми, для которых не было никаких преград, они были свободными людьми, короче говоря. Они были уверенными в себе всегда. а я никогда не был уверен в себе.
И я понимал, что я могу быть лучше, чем я есть сейчас. И это тоже очень помогало на самом деле. И когда я понимал, что я ни хрена не могу учиться (ну, я плохо очень знаю сопромат, очень плохо знаю термех), вот, я знал, что я не конченый человек, понимаешь, ну то есть условно говоря. Это мне помогало, вот эта вот внеуниверская работа моя, общественная, она очень помогала понимать, что я все-таки могу ещё чего-то добиться.
Кстати, всегда лейтмотивом после 2010 года, когда я съездил в Америку к сестре, я работал там поваром, всегда шла кулинария каким-то образом: я готовил очень много в университете для ребят.
А в детстве мамина мама очень хорошо готовила всегда. Я около нее крутился на кухне, а дедушка меня прогонял с кухни.
— С момента «мне 17 и я просто облако из мыслей и эмоций» до недавнего момента, когда ты про себя понял, кто ты — расскажи про самые сложные мысли, которые были у тебя за это время самоопределения?
— Короче, перед 3-4 курсом я точно ещё хотел поступить в медицинский институт, опять вот я купил книжки по ЕГЭ. Ну тогда я был более-менее взрослым человеком, с отцом мы серьёзно поговорили, и он меня переубедил, приведя уже нормальные аргументы.
Поговорили, как два взрослых человека. Хотя я никогда не чувствовал себя взрослым человеком.
Кстати, всегда лейтмотивом после 2010 года, когда я съездил в Америку к сестре, я работал там поваром, всегда шла кулинария каким-то образом: я готовил очень много в университете для ребят.
А в детстве мамина мама очень хорошо готовила всегда. Я около нее крутился на кухне, а дедушка меня прогонял с кухни.
— С момента «мне 17 и я просто облако из мыслей и эмоций» до недавнего момента, когда ты про себя понял, кто ты — расскажи про самые сложные мысли, которые были у тебя за это время самоопределения?
— Короче, перед 3-4 курсом я точно ещё хотел поступить в медицинский институт, опять вот я купил книжки по ЕГЭ. Ну тогда я был более-менее взрослым человеком, с отцом мы серьёзно поговорили, и он меня переубедил, приведя уже нормальные аргументы.
Поговорили, как два взрослых человека. Хотя я никогда не чувствовал себя взрослым человеком.
До сих пор у меня синдром младшего брата — твоё мнение ни хрена ничего не значит никогда.
Отец мне объяснил, почему мне не надо уже сейчас идти в мединститут: надо учиться 7 лет, ну и потом, он не главный хирург Татарстана или России, а я знал тогда уже, что я хотел учиться в институте имени Сеченова, а работать в первой городской больнице имени Пирогова. А это возможно, условно говоря, только по блату, понимаешь, если ты чей-нибудь протеже.
Я точно знал, что я не хочу быть инженером-нефтяником: так как я похож на своего отца, для меня очень важно что-то привнести в свою профессию. А как бы крутые инженеры, великие умы, которые могут решать очень сложные задачи, их вызывают для этого, понимаешь.. Когда там произошла авария на Deepwater Horizon на Карибском заливе, и вот туда были направлены лучшие инженеры, они решали задачи. Я хотел быть одним из таких людей, которые там, блин...
Я знал, что я не могу работать так, я должен оставаться честным с самим собой, я очень рано, к счастью, понял, что нельзя себя обманывать ни в коем случае.
На это ещё повлияло, знаешь, что?
Я точно знал, что я не хочу быть инженером-нефтяником: так как я похож на своего отца, для меня очень важно что-то привнести в свою профессию. А как бы крутые инженеры, великие умы, которые могут решать очень сложные задачи, их вызывают для этого, понимаешь.. Когда там произошла авария на Deepwater Horizon на Карибском заливе, и вот туда были направлены лучшие инженеры, они решали задачи. Я хотел быть одним из таких людей, которые там, блин...
Я знал, что я не могу работать так, я должен оставаться честным с самим собой, я очень рано, к счастью, понял, что нельзя себя обманывать ни в коем случае.
На это ещё повлияло, знаешь, что?
Меня никогда, к сожалению, никогда не хвалили, очень редко то есть. Очень редко родители были на моей стороне.
Наверное, это прочтёт моя мама. Но, наверное, это была огромная ошибка — воспитывать ребёнка таким образом: «Ты делаешь всё не так». Вот эта фраза, что я все делаю не так и что мне нужно делать по-другому, это очень сильно мне подпортило мою самооценку. И то есть это до сих пор продолжается.
Короче, я понял, что хочу чем-то другим заниматься. Я тогда начал лучше учиться, я понимал, что мне нужно исправить, тогда я уже повзрослел чуть-чуть и стал поумнее. Начал поправлять средние баллы. До этого меня даже один раз практически отчислили из университета за неуспеваемость. По окончании 4-го курса я понял, что я не смогу никуда поступить, кроме своего университета в магистратуру. Вот. Но я поступил. И поступил я в такую экспериментальную. Там давался список направлений, но он не очень большой, и так как у меня был низкий средний балл, я с деканом тогда лично договорился.
— Уоу, коммуникации!
— Да, к тому времени я уже умел коммуницировать. А, кстати говоря, самое главное, чему меня научила моя деятельность в The Society of Petroleum Engineers — это нетворкинг. Это, знаешь, самый лучший скилл, который я приобрел в университете. Когда все ссали заходить в деканат, я понимал, что декан — это обычный чувак.
Короче, я понял, что хочу чем-то другим заниматься. Я тогда начал лучше учиться, я понимал, что мне нужно исправить, тогда я уже повзрослел чуть-чуть и стал поумнее. Начал поправлять средние баллы. До этого меня даже один раз практически отчислили из университета за неуспеваемость. По окончании 4-го курса я понял, что я не смогу никуда поступить, кроме своего университета в магистратуру. Вот. Но я поступил. И поступил я в такую экспериментальную. Там давался список направлений, но он не очень большой, и так как у меня был низкий средний балл, я с деканом тогда лично договорился.
— Уоу, коммуникации!
— Да, к тому времени я уже умел коммуницировать. А, кстати говоря, самое главное, чему меня научила моя деятельность в The Society of Petroleum Engineers — это нетворкинг. Это, знаешь, самый лучший скилл, который я приобрел в университете. Когда все ссали заходить в деканат, я понимал, что декан — это обычный чувак.
Я, значит, захожу, а он меня помнит, он ненавидел тех, кто плохо учится, но меня помнил. Ну сейчас я понимаю, что ему всё равно было.
Я ему говорю, я вот такой-то, я понял, что не хочу дальше учиться на платке, то есть я хочу на бесплатное, он такой: «У тебя какой средний балл?» Я говорю, типа, 3,7 или 3,4, низкий, правда. Я ему говорю, типа, давайте, если я госы и диплом сдам на 5, то тогда переведёте на бесплатное.
И он сказал: «Давай».
Значит, я поступил тогда в магистратуру. Это было что-то очень странное. Я приходил в этот НИИ, там лекцию читал какой-то дядька, которому вся жизнь опостылела, ни хрена ему ничего не надо было. А там куча крутого оборудования на исследование пласта, там, ещё что-то. Но никто не знал, как им пользоваться, потому что никто, сука, английский не знал, они не могли мануалы прочитать нормально.
Я ему говорю, я вот такой-то, я понял, что не хочу дальше учиться на платке, то есть я хочу на бесплатное, он такой: «У тебя какой средний балл?» Я говорю, типа, 3,7 или 3,4, низкий, правда. Я ему говорю, типа, давайте, если я госы и диплом сдам на 5, то тогда переведёте на бесплатное.
И он сказал: «Давай».
Значит, я поступил тогда в магистратуру. Это было что-то очень странное. Я приходил в этот НИИ, там лекцию читал какой-то дядька, которому вся жизнь опостылела, ни хрена ему ничего не надо было. А там куча крутого оборудования на исследование пласта, там, ещё что-то. Но никто не знал, как им пользоваться, потому что никто, сука, английский не знал, они не могли мануалы прочитать нормально.
У меня тогда произошла такая жуткая депрессия, прямо серьёзная. Меня из этой депрессии приехала вызволять мама.
Я взял академический отпуск и приехал сюда в Казань.
— Какие были эмоции?
— Никаких эмоций не было, я сбежал просто из Москвы, понимаешь, от своих собственных страхов, от своих собственных мыслей. Мне было, сколько там, 22 года, а я ничего из себя не представлял до сих пор!
И я пошёл работать поваром, и начался этот путь, который продолжается сейчас. Естественно, меня потом просто отчислили, и я даже документы не сразу забрал. Я их потом забрал, когда я поехал на конференцию, я зашёл в институт и прошёлся, знаешь, как призрак. Это было очень забавно: я понимал, я шёл вот, как будто в фильме, ты идёшь, как будто через свою прошлую жизнь, смотришь на этих людей... Всё было таким эхом, таким гулом отзывалось.
Я позаходил к преподавателям, с которыми я общался, к своей очень классной научной руководительнице, она замечательная женщина, очень крутая — Анна Георгиевна Молчанова. Великолепный просто человек. Она помогала мне с дипломом, понимала, что мне это не нужно. Короче говоря, она была очень лояльная.
— Видимо, чувствовала, что ты будешь искать себя в чём-то другом.
— Да, да. Но с другой стороны, она и не отрицала, что, возможно, я останусь в профессии. Вот, я прошёлся по этим людям, поговорил с ними, мне стало легче, меня совсем отпустило. Тогда я полностью отпустил историю с институтом.
— Ну и ты вернулся за дипломом, когда уже почувствовал какую-то твёрдую идентичность свою, наверное.
— Да, и самое главное, что мой диплом уже поместили в архив института, потому что он нахрен никому не нужен.
Я СПУСТИЛСЯ В АРХИВ, ВЗЯЛ ДИПЛОМ И ТАКОЙ: «ВСЕМ ПРИВЕТ! И ВСЕМ ПОКА!»
А после этого уже случилась «Квартира 63».
Но почему я как бы не жалею, что получил высшее образование? Я уже сейчас понимаю: я учился в очень серьёзном в вузе, и в нём преподавали очень крутые, серьёзные преподаватели.
От заведующего кафедрой я научился честности и фундаментальному подходу к всему.
То есть он великий учёный, великий нефтяник, который изобрёл в России предмет, который называется «скважинная добыча нефти». Вот. Он один из тех преподавателей, которые, понимаешь, он потел во время лекции, потому что он прыгал, скакал, объяснял, потому что он ждал от студентов понимания, короче говоря, этого предмета, подхода творческого, фундаментального к нему, понимаешь. А не просто там прочитал материал, выучил и сдал экзамен. И я его экзамен сдал нормально. Хоть я не решил задачу, я, сука, понимал! По-моему, на 4, 4 сдал — это был хороший результат. И тогда начал закладываться мой нынешний подход ко всему вообще.
Ещё институт научил меня учиться и добывать информацию самому. Потому что этой информации нигде нету, её нужно, Короче говоря, откуда-то вырывать. правдой и неправдой доставать.
И вот когда я пришёл на кухню работать, я сразу понял, хотя нельзя так говорить, что я лучше других, но за счёт вот этого фундаментального подхода я понимал, что мне нужно научиться каким-то базовым вещам и дальше идти. То есть я могу экстерном взять это, потому что я не был глупым человеком и учился в очень крутом вузе.
Это как, знаешь, пример очень узкий будет: есть один крутой чувак, пекарь, он из Сан-Франциско, он работал до этого в Силиконовой долине.
— Имеешь в виду, он совсем по-другому смотрит на процессы, не как люди этой индустрии?
— Да, и вот у меня было то же самое. Не то что я гений Силиконовой долины, просто у меня другой подход немножко, чем у коллег. Он и сейчас остался. Я всегда фундаментально подходил к вопросу готовки, всё ставил под вопрос, короче говоря, и этим очень сильно отличался от коллег, которые были, как лошади, у которых есть вот эти вот штуки...
— Шоры.
— Да, да, а у меня шор не было.
Я работал поваром, получал какие-то копейки здесь, в Казани, я приходил домой и до поздней ночи или раннего утра читал, смотрел что-то. И так как у меня был хороший английский в школе, я очень много информации брал из западных источников. Тогда информации вообще не было особо на русском, сейчас её больше, тогда не было.
Условно говоря, никто из тех, кто работал со мной, никто не знал правильный рецепт приготовления любого соуса, какой-то классической базовой французской кулинарии. Там 4-5 базовых соуса. А я смотрел, как готовить, как шефы готовят их.
Был, короче говоря, целый мир, в который я хотел быть посвящён. Мне не хватало воздуха, я всё хватал. Мне нужны были эти знания, я понимал, что я ни хрена не понимаю, с самого начала был синдром догоняющего, понимаешь. Потому что мне было 22 года, я ни фига ещё не знал в кулинарии толком, и чтобы догнать, я много читал, смотрел, это не было достигательством. Есть такое какое-то физическое удовлетворение от того, что в тебя поступает, а ты уже знаешь это. Я очень много добавлял обучения, кроме самого процесса.
И это всё продолжается до сих пор. Я до сих пор подписан на кучу всяких каналов, подкастов и прочего. И всё, конечно, на английском языке. Это всё начало формировать во мне вот это вот профессиональное зерно, ещё вот эта вот честность с собой, с которой я был всегда. Я всегда всё старался делать честно для себя и для всех, с кем я работаю, для тех, которые едят еду, которую я готовлю.
— Как интересно отследить, что вот родители тебя отдали в школу с углубленным изучением английского языка, в университет с фундаментальными подходами — и как это сейчас пригождается и выстреливает через годы.
— Это мало кто понимает. Очень мало людей это понимают. Моя мама это не понимает, почему я по ночам фильмы эти смотрю. Ну или что-то там читаю. «Че, спать нельзя?»
И я не рецепты изучал, это не нужно. Я постоянно вдохновляюсь чем-то. Я покупаю какую-то книгу, биографию какого-то шефа — и это невероятное путешествие в чью-то жизнь, понимаешь. И ты понимаешь что, вот, блин, я тоже так могу, то есть я тоже так хочу. Есть вещи, которые я хочу перенять.
Я определил для себя какие-то тезисы, которым бы хотел следовать, правила, которым я хотел бы следовать.
— А ты можешь их озвучить сейчас?
— Могу, да.
Это как, знаешь, пример очень узкий будет: есть один крутой чувак, пекарь, он из Сан-Франциско, он работал до этого в Силиконовой долине.
— Имеешь в виду, он совсем по-другому смотрит на процессы, не как люди этой индустрии?
— Да, и вот у меня было то же самое. Не то что я гений Силиконовой долины, просто у меня другой подход немножко, чем у коллег. Он и сейчас остался. Я всегда фундаментально подходил к вопросу готовки, всё ставил под вопрос, короче говоря, и этим очень сильно отличался от коллег, которые были, как лошади, у которых есть вот эти вот штуки...
— Шоры.
— Да, да, а у меня шор не было.
Я работал поваром, получал какие-то копейки здесь, в Казани, я приходил домой и до поздней ночи или раннего утра читал, смотрел что-то. И так как у меня был хороший английский в школе, я очень много информации брал из западных источников. Тогда информации вообще не было особо на русском, сейчас её больше, тогда не было.
Условно говоря, никто из тех, кто работал со мной, никто не знал правильный рецепт приготовления любого соуса, какой-то классической базовой французской кулинарии. Там 4-5 базовых соуса. А я смотрел, как готовить, как шефы готовят их.
Был, короче говоря, целый мир, в который я хотел быть посвящён. Мне не хватало воздуха, я всё хватал. Мне нужны были эти знания, я понимал, что я ни хрена не понимаю, с самого начала был синдром догоняющего, понимаешь. Потому что мне было 22 года, я ни фига ещё не знал в кулинарии толком, и чтобы догнать, я много читал, смотрел, это не было достигательством. Есть такое какое-то физическое удовлетворение от того, что в тебя поступает, а ты уже знаешь это. Я очень много добавлял обучения, кроме самого процесса.
И это всё продолжается до сих пор. Я до сих пор подписан на кучу всяких каналов, подкастов и прочего. И всё, конечно, на английском языке. Это всё начало формировать во мне вот это вот профессиональное зерно, ещё вот эта вот честность с собой, с которой я был всегда. Я всегда всё старался делать честно для себя и для всех, с кем я работаю, для тех, которые едят еду, которую я готовлю.
— Как интересно отследить, что вот родители тебя отдали в школу с углубленным изучением английского языка, в университет с фундаментальными подходами — и как это сейчас пригождается и выстреливает через годы.
— Это мало кто понимает. Очень мало людей это понимают. Моя мама это не понимает, почему я по ночам фильмы эти смотрю. Ну или что-то там читаю. «Че, спать нельзя?»
И я не рецепты изучал, это не нужно. Я постоянно вдохновляюсь чем-то. Я покупаю какую-то книгу, биографию какого-то шефа — и это невероятное путешествие в чью-то жизнь, понимаешь. И ты понимаешь что, вот, блин, я тоже так могу, то есть я тоже так хочу. Есть вещи, которые я хочу перенять.
Я определил для себя какие-то тезисы, которым бы хотел следовать, правила, которым я хотел бы следовать.
— А ты можешь их озвучить сейчас?
— Могу, да.
Всегда быть честным с гостем, для которого ты работаешь, и всегда быть честным с командой. Ставить интересы своей команды выше своих интересов.
— Наверное, последнее очень сложно?
— Ну да, типа, подави своё эго. Но у меня никогда не было эго, понимаешь. Вот в чем прикол. Моё эго было подавлено ещё в детстве. И сейчас это стало моим преимуществом, потому что мне моё эго сейчас нахрен не нужно.
— Плюсы минусов.
— С одной стороны, да. Это сложно, короче говоря. Возможно, если бы мы сейчас жили в Скандинавии или, там, в Европе, мне бы это помогало. В России мне это несколько мешает… Ладно. Неважно.
Всегда ставить во главу угла качество продукта, с которым ты работаешь. И выбирать технику, которая наименее испортит этот продукт. И также поддерживать местных производителей, местных фермеров, местных ремесленников. Необязательно татарстанские, это могут быть российские тоже.
— Это именно про еду или дизайн в том числе?
— И дизайн в том числе. Если вот ты перевернешь вот эту тарелку — там написано, что это сделано в Суздале. Мне намного интереснее купить посуду у какого-то мелкого производителя, заплатить ему чуть больше, поддержать его.
А ещё работать без читерства, не использовать полуфабрикаты, кубики-бульончики, там, короче говоря.
— Это же сильно дороже, наверное, в плане продуктов?
— Нет, наоборот! Например, кости говяжьи стоят 25 рублей за килограмм, условно, для бульона. Это копейки. Бульоны варятся из отходов, из отходов в правильном смысле.
— Ну да, типа, подави своё эго. Но у меня никогда не было эго, понимаешь. Вот в чем прикол. Моё эго было подавлено ещё в детстве. И сейчас это стало моим преимуществом, потому что мне моё эго сейчас нахрен не нужно.
— Плюсы минусов.
— С одной стороны, да. Это сложно, короче говоря. Возможно, если бы мы сейчас жили в Скандинавии или, там, в Европе, мне бы это помогало. В России мне это несколько мешает… Ладно. Неважно.
Всегда ставить во главу угла качество продукта, с которым ты работаешь. И выбирать технику, которая наименее испортит этот продукт. И также поддерживать местных производителей, местных фермеров, местных ремесленников. Необязательно татарстанские, это могут быть российские тоже.
— Это именно про еду или дизайн в том числе?
— И дизайн в том числе. Если вот ты перевернешь вот эту тарелку — там написано, что это сделано в Суздале. Мне намного интереснее купить посуду у какого-то мелкого производителя, заплатить ему чуть больше, поддержать его.
А ещё работать без читерства, не использовать полуфабрикаты, кубики-бульончики, там, короче говоря.
— Это же сильно дороже, наверное, в плане продуктов?
— Нет, наоборот! Например, кости говяжьи стоят 25 рублей за килограмм, условно, для бульона. Это копейки. Бульоны варятся из отходов, из отходов в правильном смысле.
Мы моем и чистим морковь, а потом очистки не выбрасываем — добавляем в бульон. Для меня это вообще единственный путь, единственный способ, каким можно вести бизнес и работать на кухне.
Этому следуют многие российские шефы в том числе. Но ещё больше шефов этому не следуют, понимаешь.
Ещё очень важно стараться быть наставником, но это получается у меня вот во втором возвращении в Казань, сейчас.
— Как ты свою первую команду собрал и что это за ощущения?
— Вообще первым моим опытом работы шефом был «Свитер», и на самом деле тогда команду я не подбирал. Они сами пришли.
Первая именно моя команда собралась в «Квартире 63». Она собралась, условно говоря, случайно. Но это был такой метод проб и ошибок, тогда я начал понимать, на что человек способен, а на что не способен.
То, как я собираю команду сейчас, и то, как я собирал команду в «Квартире 63» — это разные вещи. Потому что в «Квартиру 63» люди приходили по объявлению, а сейчас у меня появилась привилегии выбирать себе людей. Ну, к счастью.
Люди приходят, и ты задаешь им пару буквально вопросов. Если какой-то там огонёк в глазах — человека надо брать. А если он рассказывает, как за полтора-два года поменял 6-7 мест работы, ему в принципе насрать, главное, чтобы нормальный график и нормальные бабки — ты понимаешь, что с этим человеком ты работать не сможешь. Но бывают моменты, когда тебе нужно взять такого человека, потому что тебе вот завтра нужен будет человек на кухне. Но ты понимаешь всё равно, что его нужно будет менять.
— Команду для «Артели» как собирал?
— Во-первых, я привез с собой су-шефа, с которой работал в Москве. Девушку (оборачивается), невероятно талантливая, вон она, кстати, стоит (показывает). Вот. Ну она как бы такой самородок вообще. И ты различаешь людей, которые точно пойдут выше, чем все остальные, потому что ты такой же был. И ты видишь человека, ты видишь в нём себя. Она из Ростова, из очень крутого ресторана Leo Wine & Kitchen. Это один из лучших ресторанов в России считается сейчас. Я её оттуда схантил в «Южане», мы в Москве работали вместе.
— Как ты из «Южан» московских решил в Казань вернуться?
Из Москвы я уехал не потому, что плохо было. Наоборот, светила карьера. Я объявил, что ухожу из «Южан», и
Ещё очень важно стараться быть наставником, но это получается у меня вот во втором возвращении в Казань, сейчас.
— Как ты свою первую команду собрал и что это за ощущения?
— Вообще первым моим опытом работы шефом был «Свитер», и на самом деле тогда команду я не подбирал. Они сами пришли.
Первая именно моя команда собралась в «Квартире 63». Она собралась, условно говоря, случайно. Но это был такой метод проб и ошибок, тогда я начал понимать, на что человек способен, а на что не способен.
То, как я собираю команду сейчас, и то, как я собирал команду в «Квартире 63» — это разные вещи. Потому что в «Квартиру 63» люди приходили по объявлению, а сейчас у меня появилась привилегии выбирать себе людей. Ну, к счастью.
Люди приходят, и ты задаешь им пару буквально вопросов. Если какой-то там огонёк в глазах — человека надо брать. А если он рассказывает, как за полтора-два года поменял 6-7 мест работы, ему в принципе насрать, главное, чтобы нормальный график и нормальные бабки — ты понимаешь, что с этим человеком ты работать не сможешь. Но бывают моменты, когда тебе нужно взять такого человека, потому что тебе вот завтра нужен будет человек на кухне. Но ты понимаешь всё равно, что его нужно будет менять.
— Команду для «Артели» как собирал?
— Во-первых, я привез с собой су-шефа, с которой работал в Москве. Девушку (оборачивается), невероятно талантливая, вон она, кстати, стоит (показывает). Вот. Ну она как бы такой самородок вообще. И ты различаешь людей, которые точно пойдут выше, чем все остальные, потому что ты такой же был. И ты видишь человека, ты видишь в нём себя. Она из Ростова, из очень крутого ресторана Leo Wine & Kitchen. Это один из лучших ресторанов в России считается сейчас. Я её оттуда схантил в «Южане», мы в Москве работали вместе.
— Как ты из «Южан» московских решил в Казань вернуться?
Из Москвы я уехал не потому, что плохо было. Наоборот, светила карьера. Я объявил, что ухожу из «Южан», и
Мне позвонил Алексей Зимин, Который икона, понимаешь? Предложил работу в своём новом ресторане в особняке. Я отказался, потому что уже был здесь план, в Казани.
Мы уже встретились на тот момент с Русланом, который из «Квартиры 63», договорились.
— Тяжело было отказывать?
— Вообще нет.
Вообще было очень круто как раз — это было как разбежаться и прыгнуть с обрыва, а там хорошая, тёплая, глубокая вода.
Я понимал, что все звёзды, которые со мной работали в «Квартире 63», стали самостоятельными единицами — и это было очень круто. И я уже не смог бы забрать их к себе, но мне это уже и не нужно было.
Я уже понимал, что хочу собрать свою команду заново и поделиться своими знаниями, подходом, философией с людьми, которым это нужно. И здесь, конечно, мы объявили набор.
Один повар вообще подошёл ко мне в Москве, казанский. На одном из форумов, «Завтрак шефа» называется. Он подошел ко мне и такой: «Привет-привет, я хочу с тобой работать. Меня Марат зовут». И я взял его в команду. Он до этого работал с очень хорошим шефом, который стал лучшим шефом Татарстана, кстати, по версии WHERETOEAT. Мы знакомы мы с ним, общаемся, он классный чувак. Мы с ним поработали, и сейчас он уехал работать в Питер. То есть он пошёл дальше, своей дорогой. Ему захотелось чего-то ещё большего.
— Как отпускаешь сотрудников?
— Очень хорошо, очень легко отпускаю. Я их не увольняю, они сами уходят. А ещё я в себе развил умение видеть, что человек уже вырос и его надо дальше отпускать.
— Тяжело было отказывать?
— Вообще нет.
Вообще было очень круто как раз — это было как разбежаться и прыгнуть с обрыва, а там хорошая, тёплая, глубокая вода.
Я понимал, что все звёзды, которые со мной работали в «Квартире 63», стали самостоятельными единицами — и это было очень круто. И я уже не смог бы забрать их к себе, но мне это уже и не нужно было.
Я уже понимал, что хочу собрать свою команду заново и поделиться своими знаниями, подходом, философией с людьми, которым это нужно. И здесь, конечно, мы объявили набор.
Один повар вообще подошёл ко мне в Москве, казанский. На одном из форумов, «Завтрак шефа» называется. Он подошел ко мне и такой: «Привет-привет, я хочу с тобой работать. Меня Марат зовут». И я взял его в команду. Он до этого работал с очень хорошим шефом, который стал лучшим шефом Татарстана, кстати, по версии WHERETOEAT. Мы знакомы мы с ним, общаемся, он классный чувак. Мы с ним поработали, и сейчас он уехал работать в Питер. То есть он пошёл дальше, своей дорогой. Ему захотелось чего-то ещё большего.
— Как отпускаешь сотрудников?
— Очень хорошо, очень легко отпускаю. Я их не увольняю, они сами уходят. А ещё я в себе развил умение видеть, что человек уже вырос и его надо дальше отпускать.
Я понял, что быть руководителем — это брать на себя ответственность. Когда ты руководишь людьми, в твоих руках как бы судьба человека, понимаешь?
Так или иначе. Ты им как бы не распоряжаешься ни в коем случае, естественно, но, так или иначе, ты можешь повлиять на его судьбу. Возможность повлиять на судьбу очень подпитывает. Получаешь от этого положительную энергию очень.
Если человек хочет уйти, значит, дальше не имеет смысла с ним работать, потому что это либо живой труп, который ходит у тебя и заражает всех, условно говоря, либо это человек, который теряет мотивацию к работе. Работа поваром — это стоять на ногах по 15 часов в сутки и не очень много денег получать, пока ты не стал шефом, су-шефом. Без мотивации, без желания ты просто как спичка сгоришь. Это очень многоёмкая работа, она отнимает очень много энергии.
Соответственно, эту энергию нужно где-то восполнять. Это точно не алкоголь и не наркотики, как иногда бывает у некоторых людей. Если рассмотреть, например, там, двух-трёх писателей — Эрнест Хемингуэй, Джек Керуак и Харуки Мураками — то у них у всех очень разный подход.
Я считаю, например, что постоянно пить и спускаться на дно — это не очень правильно, для того чтобы быть писателем, писать какой-то материал — это же затрачивать много сил, и поэтому тебе постоянно нужно быть здоровым, чтобы этой энергией делиться с другими. Это может быть через какой-то текст, или через твою работу, через еду. То есть это должна быть постоянная подпитка, короче говоря, хорошей энергией. И это энергия — она всегда там, на кухне, и ты получаешь её от людей, с которыми ты работаешь, и ты понимаешь, что это не зря. И это всегда подстёгивает.
Мне, чтобы вдохновиться, не нужно куда-то лететь, путешествовать. Вдохновения всегда достаточно, чтобы не выгореть, потому что я черпаю вдохновение отовсюду, понимаешь? Иногда бывает такое, что я могу выгореть 4 раза в неделю, к вечеру полностью выгораю, но я прихожу вечером домой и мне достаточно прочитать какую-то историю, что-то послушать, меня очень вдохновляет музыка, например, в том числе. Или, там, с кем-то поговорить. Получаю вдохновение от своей семьи, от своего сына.
Если человек хочет уйти, значит, дальше не имеет смысла с ним работать, потому что это либо живой труп, который ходит у тебя и заражает всех, условно говоря, либо это человек, который теряет мотивацию к работе. Работа поваром — это стоять на ногах по 15 часов в сутки и не очень много денег получать, пока ты не стал шефом, су-шефом. Без мотивации, без желания ты просто как спичка сгоришь. Это очень многоёмкая работа, она отнимает очень много энергии.
Соответственно, эту энергию нужно где-то восполнять. Это точно не алкоголь и не наркотики, как иногда бывает у некоторых людей. Если рассмотреть, например, там, двух-трёх писателей — Эрнест Хемингуэй, Джек Керуак и Харуки Мураками — то у них у всех очень разный подход.
Я считаю, например, что постоянно пить и спускаться на дно — это не очень правильно, для того чтобы быть писателем, писать какой-то материал — это же затрачивать много сил, и поэтому тебе постоянно нужно быть здоровым, чтобы этой энергией делиться с другими. Это может быть через какой-то текст, или через твою работу, через еду. То есть это должна быть постоянная подпитка, короче говоря, хорошей энергией. И это энергия — она всегда там, на кухне, и ты получаешь её от людей, с которыми ты работаешь, и ты понимаешь, что это не зря. И это всегда подстёгивает.
Мне, чтобы вдохновиться, не нужно куда-то лететь, путешествовать. Вдохновения всегда достаточно, чтобы не выгореть, потому что я черпаю вдохновение отовсюду, понимаешь? Иногда бывает такое, что я могу выгореть 4 раза в неделю, к вечеру полностью выгораю, но я прихожу вечером домой и мне достаточно прочитать какую-то историю, что-то послушать, меня очень вдохновляет музыка, например, в том числе. Или, там, с кем-то поговорить. Получаю вдохновение от своей семьи, от своего сына.
— У тебя цитата в одном интервью была о том, что ты хочешь нанести Казань на гастрономическую карту страны. Как она формируется вообще?
— Ну, во-первых, в Москве я познакомился с очень классными ребятами, журналистами в том числе.
— Ресторанными критиками?
— Ну у нас как таковой не существует ресторанной критики, это, скорее, пиарщики и журналисты, общая тусовочка такая в Москве, Питере и других городах. То есть до недавнего времени существовали только Москва и Санкт-Петербург с точки зрения каких-то ресторанов, в которые интересно сходить. В последние несколько лет начал появляться Екатеринбург, так или иначе, Нижний Новгород...
— Сочи ещё, наверное?
— Сочи, да. В Сибири есть классные города и рестораны, на Сахалине есть. А в Казани не было, понимаешь. В Казани был такой закостенелый, старорежимный ресторанный бомонд, какие-то несколько игроков на рынке, которые просто были заточены делать бизнес с высокой маржой и высасывать деньги из людей, короче говоря.
В какой-то момент в Москве и Питере произошла революция, она произошла, когда я ещё учился в университете. Появилось кафе «Рагу», появились The Burger Brothers… То есть там было несколько волн в Москве.
И вот недавно эти журналисты начали ездить по городам, начали писать, и про их самобытность начали писать, понимаешь? И я понял, что эта самобытность есть в Татарстане, она представлена широчайше.
Во-первых, Татарстан — это огромный агропромышленный край, возможно, третий — после Кубани и Ставропольского края.
В Татарстане есть культура еды.
— Ну, во-первых, в Москве я познакомился с очень классными ребятами, журналистами в том числе.
— Ресторанными критиками?
— Ну у нас как таковой не существует ресторанной критики, это, скорее, пиарщики и журналисты, общая тусовочка такая в Москве, Питере и других городах. То есть до недавнего времени существовали только Москва и Санкт-Петербург с точки зрения каких-то ресторанов, в которые интересно сходить. В последние несколько лет начал появляться Екатеринбург, так или иначе, Нижний Новгород...
— Сочи ещё, наверное?
— Сочи, да. В Сибири есть классные города и рестораны, на Сахалине есть. А в Казани не было, понимаешь. В Казани был такой закостенелый, старорежимный ресторанный бомонд, какие-то несколько игроков на рынке, которые просто были заточены делать бизнес с высокой маржой и высасывать деньги из людей, короче говоря.
В какой-то момент в Москве и Питере произошла революция, она произошла, когда я ещё учился в университете. Появилось кафе «Рагу», появились The Burger Brothers… То есть там было несколько волн в Москве.
И вот недавно эти журналисты начали ездить по городам, начали писать, и про их самобытность начали писать, понимаешь? И я понял, что эта самобытность есть в Татарстане, она представлена широчайше.
Во-первых, Татарстан — это огромный агропромышленный край, возможно, третий — после Кубани и Ставропольского края.
В Татарстане есть культура еды.
В Татарстане люди очень разбираются в продуктах. Намного больше, чем в Москве. Тут никому не подашь стрёмный продукт: тебе сразу скажут, что это говно.
Потому что у многих были бабушки, мамы, которые готовили из хороших продуктов.
Я понял, во-первых, для себя я понял, что я не хуже, чем все остальные крутые шефы во всей этой... Москве и в Питере. И вот эта вот фраза work until your idols become your rivals — здесь для себя тоже галочку поставил.
И я понял, что больше не хочу работать в Москве, потому что очень много надо идти на компромисс.
Я читал про шефов, которые закупают баранину в Нормандии, условно говоря, и если у них нет этой баранины — они не готовят её, они приготовят что-то другое из меню, но они не будут обманывать своего гостя, то есть они не будут давать гостю другую баранину, левую.
Был случай. Я нашёл поставщиков из Калмыкии, невероятная баранина, потому что Калмыкия — степная республика, где дуют очень сильные ветры, где очень холодно, баранина живёт в таких суровых условиях, и вот эта вот суровость с такими условиями жизни вкупе даёт невероятное мясо, очень вкусное. Первый раз я был в шоке. О таких продуктах я только читал в историях про французских, американских, английских поваров. И в один момент у меня эта баранина закончилась в ресторане, я понимал, что следующая поставка будет только через 4 дня. Но вот эта конъюнктура была, нужно было готовить.
Я понял, во-первых, для себя я понял, что я не хуже, чем все остальные крутые шефы во всей этой... Москве и в Питере. И вот эта вот фраза work until your idols become your rivals — здесь для себя тоже галочку поставил.
И я понял, что больше не хочу работать в Москве, потому что очень много надо идти на компромисс.
Я читал про шефов, которые закупают баранину в Нормандии, условно говоря, и если у них нет этой баранины — они не готовят её, они приготовят что-то другое из меню, но они не будут обманывать своего гостя, то есть они не будут давать гостю другую баранину, левую.
Был случай. Я нашёл поставщиков из Калмыкии, невероятная баранина, потому что Калмыкия — степная республика, где дуют очень сильные ветры, где очень холодно, баранина живёт в таких суровых условиях, и вот эта вот суровость с такими условиями жизни вкупе даёт невероятное мясо, очень вкусное. Первый раз я был в шоке. О таких продуктах я только читал в историях про французских, американских, английских поваров. И в один момент у меня эта баранина закончилась в ресторане, я понимал, что следующая поставка будет только через 4 дня. Но вот эта конъюнктура была, нужно было готовить.
и Я купил баранину на рынке. в первый же вечер, когда я готовил её, меня вызвал гость и сказал: «Это не баранина из Калмыкии, это х****».
И мне тогда так стыдно стало... Для многих шефов это мелочи, типа, людям должно быть всё равно, что они едят, какое мясо они едят, какой сыр они едят.
Я от стыда в этот вечер даже напился. Я понял, что я не хочу так, мне так стрёмно, на душе кошки скребут. Причём это неплохо, что они так работают, «Южане» правда хороший ресторан. Так работают все рестораны — не только в России, но и по всему миру. Это норма, получается. Просто это для меня был ещё один камушек.
Я понял, что хочу, чтобы частью моей философии был какой-то вот правильный подход. Опять же, для многих шефов это утопия.
Я от стыда в этот вечер даже напился. Я понял, что я не хочу так, мне так стрёмно, на душе кошки скребут. Причём это неплохо, что они так работают, «Южане» правда хороший ресторан. Так работают все рестораны — не только в России, но и по всему миру. Это норма, получается. Просто это для меня был ещё один камушек.
Я понял, что хочу, чтобы частью моей философии был какой-то вот правильный подход. Опять же, для многих шефов это утопия.
Но это совсем не утопия: приехав в Казань, я понял для себя, что я могу не идти на компромисс сам с собой, я могу делать так, как я хочу. Потому что я сам себе это позволяю, понимаешь.
Мы покупаем классные сыры у крутых фермеров, и если у меня именно этого сыра нету, то я не буду подавать другой сыр вместо него, понимаешь.
Сейчас пошла мода обращать внимание на регионы, потому что они самобытные как бы, да. В Татарстане есть эта самобытность, её нужно показывать. Поэтому «Артель» как бы уже вошла на карту России сейчас, понимаешь. О нас знают, сюда приходят иностранцы и гости столицы, им нравится. Нас упомянули несколько раз очень влиятельные и классные журналисты, и это было совершенно заслуженно.
Это не мои регалии какие-то, я лишь поделился своим подходом со своей командой, не побоюсь этого слова, dream team, понимаешь. Из людей, которые до этого работали по 30 лет в лучших ресторанах мира, или, там, Казани, Москвы. Здесь какая-то произошла синергия, и вот эта философия, которую мы талдычили с самого начала… Это люди, которые... это мои как бы инструменты, это мой мегафон.
Сейчас пошла мода обращать внимание на регионы, потому что они самобытные как бы, да. В Татарстане есть эта самобытность, её нужно показывать. Поэтому «Артель» как бы уже вошла на карту России сейчас, понимаешь. О нас знают, сюда приходят иностранцы и гости столицы, им нравится. Нас упомянули несколько раз очень влиятельные и классные журналисты, и это было совершенно заслуженно.
Это не мои регалии какие-то, я лишь поделился своим подходом со своей командой, не побоюсь этого слова, dream team, понимаешь. Из людей, которые до этого работали по 30 лет в лучших ресторанах мира, или, там, Казани, Москвы. Здесь какая-то произошла синергия, и вот эта философия, которую мы талдычили с самого начала… Это люди, которые... это мои как бы инструменты, это мой мегафон.
— Расскажи про татуировки?
— На самом деле это был экзистенциальный кризис. Вообще история с «Камой» такая трагичная для меня. Когда только открылась «Кама», я узнал, что у отца рак. А когда «Кама» закрылась, папы не стало. И как бы… поэтому я вообще это время жизни из памяти стёр, понимаешь. Для меня этого времени не было. Это очень тяжело для меня. Я даже не хотел бы его вспоминать.
— Давай не будем.
— То есть это был кризис, и я решил: надо вот сделать татуировки. Мне понравилось. Это не какой-то там особенный месседж, понимаешь. Я опять-таки очень открытый человек, никого не осуждаю ни за что. То есть пока человек не нарушает права других людей, я его не осуждаю ни за ориентацию, ни за то, покрыт ли он полностью татуировками или нет и так далее — вообще всё равно.
Мой любимый анекдот на эту тему: заходит еврей, китаец, русский и француз в бар и ничего не происходит, потому что ни один из них не мудак, понимаешь.
— Класс! Слушай, а вот у тебя было несколько возвращений в Казань. Ты оценивал как-то публику, наверное, каждый раз? Вот в сравнении — сейчас аудитория какая? Она подросла?
— Да, конечно, можно на примере моего дяди даже вот. Он нефтяник в прошлом. Он первый раз побывал в Париже очень давно, когда я ещё был ребёнком. И вот он нашёл какой-то крутой ресторан в Париже, ну как бы человек выращен в Советском Союзе, геолог...
— На самом деле это был экзистенциальный кризис. Вообще история с «Камой» такая трагичная для меня. Когда только открылась «Кама», я узнал, что у отца рак. А когда «Кама» закрылась, папы не стало. И как бы… поэтому я вообще это время жизни из памяти стёр, понимаешь. Для меня этого времени не было. Это очень тяжело для меня. Я даже не хотел бы его вспоминать.
— Давай не будем.
— То есть это был кризис, и я решил: надо вот сделать татуировки. Мне понравилось. Это не какой-то там особенный месседж, понимаешь. Я опять-таки очень открытый человек, никого не осуждаю ни за что. То есть пока человек не нарушает права других людей, я его не осуждаю ни за ориентацию, ни за то, покрыт ли он полностью татуировками или нет и так далее — вообще всё равно.
Мой любимый анекдот на эту тему: заходит еврей, китаец, русский и француз в бар и ничего не происходит, потому что ни один из них не мудак, понимаешь.
— Класс! Слушай, а вот у тебя было несколько возвращений в Казань. Ты оценивал как-то публику, наверное, каждый раз? Вот в сравнении — сейчас аудитория какая? Она подросла?
— Да, конечно, можно на примере моего дяди даже вот. Он нефтяник в прошлом. Он первый раз побывал в Париже очень давно, когда я ещё был ребёнком. И вот он нашёл какой-то крутой ресторан в Париже, ну как бы человек выращен в Советском Союзе, геолог...
Ему принесли тартар. он рассказывал эту историю нам за семейным столом: «Представляешь, мне принесли сырую котлету. Ну, я их отправил дожаривать».
А сейчас он заказывает себе тартары, понимаешь, он начал разбираться в еде.
И вот так же развивается публика в Казани. То есть они понимают, что есть что-то иное, не только домашние котлеты мамины, что есть какие-то классные вкусы, которые для себя можно открыть.
И ещё, ты знаешь, очень много появилось гостей, которых раньше не было, но они всё время были в Казани. Это люди, у которых было чёткое представление, что в Казани негде есть, то есть у которых есть деньги, они так или иначе путешествуют. Они готовят у себя дома из хороших продуктов.
— Это эстеты прямо какие-то.
— Ну, гурманы такие, за качество, знают, что такое хорошая еда. Теперь они ходят к нам в «Артель», в «Сетку», «Бранч», ну ещё там несколько фаст-фудов. Но это тоже немного. Казань пока ещё на таком зачаточном уровне.
— Были ли гости в Казани, которые к тебе приходили и были недовольны?
— Ну как сказать, вот есть люди, которые любят котлетку с пюре есть, и это их любимая еда, и когда им приносят что-то иное, они этого не понимают. Но чаще всего, как говорится, в конце дня это всего лишь еда, и поэтому люди, которые понимают, что это еда, они оценивают её по достоинству, даже если они любили до этого котлеты с пюре. Типа: «О, это интересно, это ещё не пробовал, первый раз сегодня это попробовал». Или очень часто люди говорят, что за качественной едой хочет возвращаться снова и снова. Но опять-таки: есть люди, которые считают, что в «Артели» невкусно. Это нормально, это не плохо. Кому-то, например, не нравятся фильмы Квентина Тарантино. Я не сравниваю себя с Тарантино ни в коем случае, просто я к тому, что у людей разные вкусы.
— Давай тогда сравним Москву и Казань. Не только с точки зрения профессии, а вообще: что нравится, а что бесит?
— Мне очень нравится в Москве её простор, ну то есть размах. Мне нравятся широкие улицы, проспекты, ты чувствуешь силу там. Москва мне нравится, как многим Париж нравится. Там очень удобно жить, потому что Москва состоит из разных округов, и в каждом сейчас очень развита инфраструктура, тебе не надо через весь город ездить в какой-то магазин.
В Москве очень много доступной среды стало. Я ещё сравниваю Москву 2008 года и нынешнюю. В 2008 Москва для меня была очень богатой Казанью с Красной площадью и ВДНХ, ничего больше. А потом переделали Парк Горького, это был такой, помню, приятный сюрприз. Москва стала таким большим крутым европейским городом.
Когда я уже приехал туда работать в «Южане», я для себя в один момент понял, что я хочу, чтобы здесь вырос мой сын. Впоследствии это поменялось. А Казань для меня… понимаешь, когда отца не стало и закрылась «Кама», я опять-таки просто сбежал отсюда, от всего этого сбежал. Меня пригласили на работу в Москву — я сразу согласился.
И вот так же развивается публика в Казани. То есть они понимают, что есть что-то иное, не только домашние котлеты мамины, что есть какие-то классные вкусы, которые для себя можно открыть.
И ещё, ты знаешь, очень много появилось гостей, которых раньше не было, но они всё время были в Казани. Это люди, у которых было чёткое представление, что в Казани негде есть, то есть у которых есть деньги, они так или иначе путешествуют. Они готовят у себя дома из хороших продуктов.
— Это эстеты прямо какие-то.
— Ну, гурманы такие, за качество, знают, что такое хорошая еда. Теперь они ходят к нам в «Артель», в «Сетку», «Бранч», ну ещё там несколько фаст-фудов. Но это тоже немного. Казань пока ещё на таком зачаточном уровне.
— Были ли гости в Казани, которые к тебе приходили и были недовольны?
— Ну как сказать, вот есть люди, которые любят котлетку с пюре есть, и это их любимая еда, и когда им приносят что-то иное, они этого не понимают. Но чаще всего, как говорится, в конце дня это всего лишь еда, и поэтому люди, которые понимают, что это еда, они оценивают её по достоинству, даже если они любили до этого котлеты с пюре. Типа: «О, это интересно, это ещё не пробовал, первый раз сегодня это попробовал». Или очень часто люди говорят, что за качественной едой хочет возвращаться снова и снова. Но опять-таки: есть люди, которые считают, что в «Артели» невкусно. Это нормально, это не плохо. Кому-то, например, не нравятся фильмы Квентина Тарантино. Я не сравниваю себя с Тарантино ни в коем случае, просто я к тому, что у людей разные вкусы.
— Давай тогда сравним Москву и Казань. Не только с точки зрения профессии, а вообще: что нравится, а что бесит?
— Мне очень нравится в Москве её простор, ну то есть размах. Мне нравятся широкие улицы, проспекты, ты чувствуешь силу там. Москва мне нравится, как многим Париж нравится. Там очень удобно жить, потому что Москва состоит из разных округов, и в каждом сейчас очень развита инфраструктура, тебе не надо через весь город ездить в какой-то магазин.
В Москве очень много доступной среды стало. Я ещё сравниваю Москву 2008 года и нынешнюю. В 2008 Москва для меня была очень богатой Казанью с Красной площадью и ВДНХ, ничего больше. А потом переделали Парк Горького, это был такой, помню, приятный сюрприз. Москва стала таким большим крутым европейским городом.
Когда я уже приехал туда работать в «Южане», я для себя в один момент понял, что я хочу, чтобы здесь вырос мой сын. Впоследствии это поменялось. А Казань для меня… понимаешь, когда отца не стало и закрылась «Кама», я опять-таки просто сбежал отсюда, от всего этого сбежал. Меня пригласили на работу в Москву — я сразу согласился.
Когда я вернулся, я начал понимать, что Казань тоже очень классный город. Он такой близкий, как старая поношенная футболка. Самая удобная, и ты в ней хочешь ходить.
Сейчас я не чувствую, что Москва или Питер лучше, чем Казань, и это по факту так. Люди, которые сюда приезжают, они понимают, что город совсем стал другой.
Он очень интересный с точки зрения еды, продуктов, с точки зрения архитектуры. Здесь такие красивые дома есть, улицы.
Конечно, очень много здесь минусов, которые озвучил Петя Сафиуллин в своём интервью. Но несмотря на все эти минусы, которые есть в Казани, это всё равно прекрасный город. Это ни в коем случае не уездный город, это всегда была губерния. Но и гонки такой нет, Сиэтл не хочет стать Нью-Йорком, понимаешь?
Я вижу этот город с точки зрения ностальгии. С точки зрения такой-то социально-географической романтики. Есть Горки, есть Азино, есть Московский район, и это всё для меня такое родное, знаешь, я в этом всём, как рыба в воде. Я знаю, куда можно съездить на выходные, ещё очень много всего неисследованного в том числе, я могу поехать тут на рыбалку, у меня здесь есть друзья.
Казань для меня — это моя среда, в которой я себя чувствую очень хорошо. И пока здесь могу делать то, что я делаю: растить своего ребёнка, так как я хочу это делать, жить со своей семьей, так как я хочу делать бизнес так, как я хочу… пока я могу приносить какие-то положительные эмоции людям — я буду здесь.
Конечно, очень много здесь минусов, которые озвучил Петя Сафиуллин в своём интервью. Но несмотря на все эти минусы, которые есть в Казани, это всё равно прекрасный город. Это ни в коем случае не уездный город, это всегда была губерния. Но и гонки такой нет, Сиэтл не хочет стать Нью-Йорком, понимаешь?
Я вижу этот город с точки зрения ностальгии. С точки зрения такой-то социально-географической романтики. Есть Горки, есть Азино, есть Московский район, и это всё для меня такое родное, знаешь, я в этом всём, как рыба в воде. Я знаю, куда можно съездить на выходные, ещё очень много всего неисследованного в том числе, я могу поехать тут на рыбалку, у меня здесь есть друзья.
Казань для меня — это моя среда, в которой я себя чувствую очень хорошо. И пока здесь могу делать то, что я делаю: растить своего ребёнка, так как я хочу это делать, жить со своей семьей, так как я хочу делать бизнес так, как я хочу… пока я могу приносить какие-то положительные эмоции людям — я буду здесь.
Интервью — Альбина закируллина
Фото — даниил шведов
видео — Ильшат рахимбай, adem media
Фото — даниил шведов
видео — Ильшат рахимбай, adem media