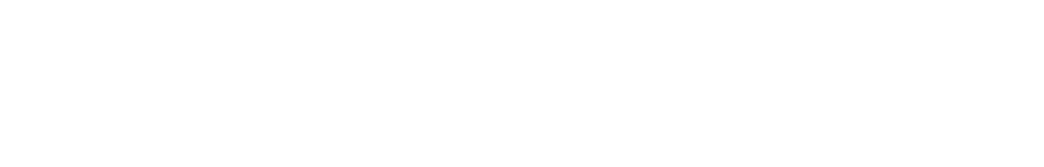ЭТО НЕ ПРО НАС, ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
ТУФАН ИМАМУТДИНОВ
ТУФАН ИМАМУТДИНОВ
ЭТО НЕ ПРО НАС, ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Туфан Имамудинов, выпускник ГИТИСа, вернулся в Татарстан, чтобы возглавить труппу Казанского театра юного зрителя. Параллельно с работой в репертуарном театре, организовал творческое объединение «Алиф», постановки которой перерастают в общественные дискуссии и ежегодно номинируюся на «Золотую маску».
Туфан Имамудинов, выпускник ГИТИСа, вернулся в Татарстан, чтобы возглавить труппу Казанского театра юного зрителя. Параллельно с работой в репертуарном театре, организовал творческое объединение «Алиф», постановки которой перерастают в общественные дискуссии и ежегодно номинируюся на «Золотую маску».
На татарском языке мы говорим о тех внутренних проблемах, которые у нас существуют. Что как бы народу близко. А когда начинаешь делать какие-то более по теме объёмные вещи, тогда возникает, конечно...
НУ, ЧТО ЭТО НЕ ПРО НАС, ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ ПРО ЭТО НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ? А ПОЧЕМУ НЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ?
— Ты помнишь момент, когда осознал это?
— Наверное, после «Алиф»... произошло. Вот чем татарский язык хуже, допустим, того же русского или английского языка? Вот. Ну, нинди җирем ким, да? Я не знаю, почему такие... как бы, табу.
Это, возможно, возникает из-за традиции восприятий на самом деле. Потому что, допустим, драматург... драматургия у нас... ул авыл җирлеген карый, авыл проблемаларына нигезләнә... Но почему-то вот городские темы, они мало поднимаются в драматурги. Хотя это некая такая золотая жила... на самом деле... Потому что, видя на примере, допустим, «Мәхәббәт FM», где такая городская, студенческая жизнь рассматривается... Людям это близко, да, то есть, молодёжь хочет на это ходить, это им интересно. Но такой городской драматургии очень, очень мало, мне кажется.
На самом деле авылда тоже уже үзгәрешләр бик күп, пласты уже сдвинулись. Вот эти вот все полуромантические девы, бегающие в платках как бы... мне кажется, они уже в прошлом на самом деле. То есть это только как такой артефакт можно рассматривать… Музей такой, как жили в 80-х, 90-х, это уже к реалиям вообще не относится никак.
— Наверное, после «Алиф»... произошло. Вот чем татарский язык хуже, допустим, того же русского или английского языка? Вот. Ну, нинди җирем ким, да? Я не знаю, почему такие... как бы, табу.
Это, возможно, возникает из-за традиции восприятий на самом деле. Потому что, допустим, драматург... драматургия у нас... ул авыл җирлеген карый, авыл проблемаларына нигезләнә... Но почему-то вот городские темы, они мало поднимаются в драматурги. Хотя это некая такая золотая жила... на самом деле... Потому что, видя на примере, допустим, «Мәхәббәт FM», где такая городская, студенческая жизнь рассматривается... Людям это близко, да, то есть, молодёжь хочет на это ходить, это им интересно. Но такой городской драматургии очень, очень мало, мне кажется.
На самом деле авылда тоже уже үзгәрешләр бик күп, пласты уже сдвинулись. Вот эти вот все полуромантические девы, бегающие в платках как бы... мне кажется, они уже в прошлом на самом деле. То есть это только как такой артефакт можно рассматривать… Музей такой, как жили в 80-х, 90-х, это уже к реалиям вообще не относится никак.
каким местом я хуже
изменений очень много
моя родина, моя деревня, моя мама, мой Татарстан... Вот такие понятия. Ну... мы сужаем... Этот вот мировой образный архив — он
калфаки, тюбетейки
у нас же и Тукай писал на арабской графике, поэтому давайте начнем с Тукая... Вот, давайте возьмем "Туган тел" ("Родной язык") и алфавит... Вот так и перешли.
в деревне
она рассматривает деревенскую местность, основывается на деревенских проблемах...
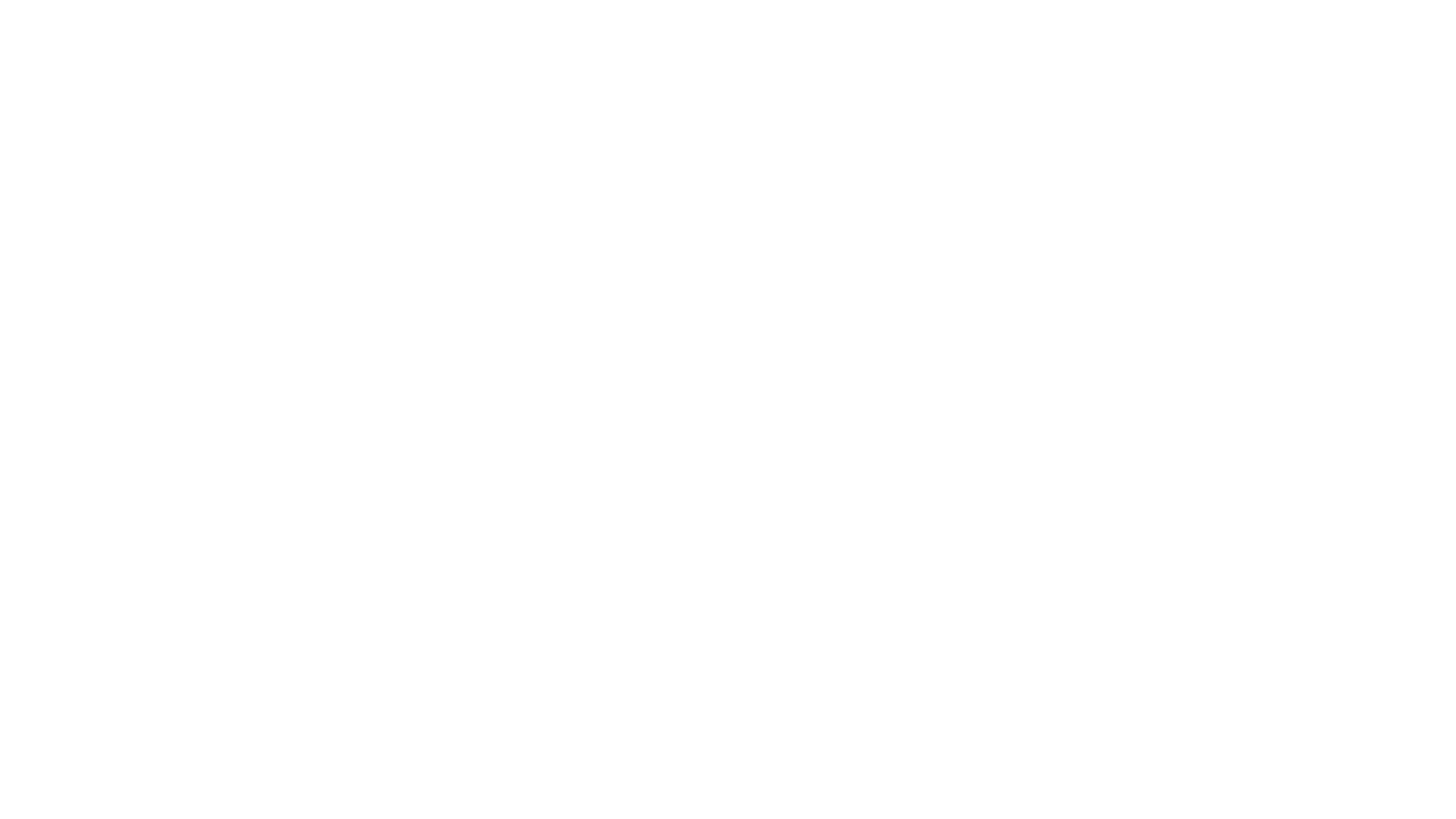
— «Алиф» ты делал как «татарский» спектакль?
— Изначально мы хотели сделать спектакль на иранской поэзии. Потому что она мне очень нравится. Совершенно какие-то неожиданные образы они умеют вплести туда... И какую-то индийскую философию, и вдруг выплывают откуда-то там такие понятия как древо жизни... Оно же вот описано все и в исламской культуре, но почему-то это не стало прообразом для... ну, не стало образами нашей поэзии. То есть мы не мыслим так глобально. Мы мыслим: минем илем, минем авылым, минем әнием, Татарстаным... Вот шундый әйберләр. Теге... без киметәбез... Әнә шул мировой образный архив — ул для нас как будто не существует.
— Изначально мы хотели сделать спектакль на иранской поэзии. Потому что она мне очень нравится. Совершенно какие-то неожиданные образы они умеют вплести туда... И какую-то индийскую философию, и вдруг выплывают откуда-то там такие понятия как древо жизни... Оно же вот описано все и в исламской культуре, но почему-то это не стало прообразом для... ну, не стало образами нашей поэзии. То есть мы не мыслим так глобально. Мы мыслим: минем илем, минем авылым, минем әнием, Татарстаным... Вот шундый әйберләр. Теге... без киметәбез... Әнә шул мировой образный архив — ул для нас как будто не существует.
Я НЕ ИМЕЮ В ВИДУ, ЧТО ДАВАЙТЕ ВОТ ОБРАЗЫ ТАЩИТЕ ИЗ... ДОПУСТИМ, АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ ИЛИ КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ТАМ... ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ТО ЕСТЬ ЭТОГО ЖЕ ВСЕГО МНОГО И В ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ…
Ну, в старинной поэзии. Но мы к этому почему-то не возвращаемся.
И вот, я говорю, давайте всё-таки... безнең бит Тукай да гарәп графикасында язган, шуңа күрә Тукайдан башлыйк... Менә, «Туган тел»не һәм әлифбаны алыйк дип... Шулай күчтек инде.
— А ты не боишься туда ходить — в древнюю поэзию?
— Нет, почему?
— Ну, например мне кажется, что мое мировоззрение — оно абсолютно другое и я никогда не пойму, что они на самом деле имели ввиду. Вообще никогда.
— Ты не поймёшь, потому что у тебя нет этого бэкграунда, понимаешь. А почему бы не изучить бэкграунд? Это же интересно. Почему именно люди так писали, почему у них, допустим, образ розы не в значении розы, а чего-то другого. Какой это был подтекст?
И вот, я говорю, давайте всё-таки... безнең бит Тукай да гарәп графикасында язган, шуңа күрә Тукайдан башлыйк... Менә, «Туган тел»не һәм әлифбаны алыйк дип... Шулай күчтек инде.
— А ты не боишься туда ходить — в древнюю поэзию?
— Нет, почему?
— Ну, например мне кажется, что мое мировоззрение — оно абсолютно другое и я никогда не пойму, что они на самом деле имели ввиду. Вообще никогда.
— Ты не поймёшь, потому что у тебя нет этого бэкграунда, понимаешь. А почему бы не изучить бэкграунд? Это же интересно. Почему именно люди так писали, почему у них, допустим, образ розы не в значении розы, а чего-то другого. Какой это был подтекст?
— Да, но те, кто объясняет эти розы, мотыльки и свечки — это же тоже кто-то живший в промежутке между тем временем и нашим, у них тоже свое мировоззрение, своя интерпретация. Это не первоисточник.
— Ну, не первоисточник, да... Поэтому я и хочу, чтобы обращались к первоисточнику. В «Алифе» же как? Используя арабскую графику написания материала, по сути, мы обращаемся к первоисточнику. Тукай этими знаками писал. Он же не писал на рунических писаниях и так далее. Как он написал, мы так и транслируем. То есть транслируем источник. Вот.
И, в принципе, для удобства, конечно... если бы мы заботились о зрителе... надо было бы это писать на кириллице, как бы, да?.. Но тогда в этом совершенно не было бы поэзии, во-первых. Во-вторых, не поднималась бы та проблема, которую мы поднимали там.
Мы не заходим на территорию самой поэзии, понимаешь. Мы интерпретируем это только через движение. Интерпретация происходит как бы... через тело. Мы не переписываем Тукая, не добавляем ему что-то ещё, не комментируем. Поэтому здесь, в этом пространстве, которое создается вне стихотворения, я уже волен делать всё, что хочу. Ну да, это как бы моя уже территория.
— Ну, не первоисточник, да... Поэтому я и хочу, чтобы обращались к первоисточнику. В «Алифе» же как? Используя арабскую графику написания материала, по сути, мы обращаемся к первоисточнику. Тукай этими знаками писал. Он же не писал на рунических писаниях и так далее. Как он написал, мы так и транслируем. То есть транслируем источник. Вот.
И, в принципе, для удобства, конечно... если бы мы заботились о зрителе... надо было бы это писать на кириллице, как бы, да?.. Но тогда в этом совершенно не было бы поэзии, во-первых. Во-вторых, не поднималась бы та проблема, которую мы поднимали там.
Мы не заходим на территорию самой поэзии, понимаешь. Мы интерпретируем это только через движение. Интерпретация происходит как бы... через тело. Мы не переписываем Тукая, не добавляем ему что-то ещё, не комментируем. Поэтому здесь, в этом пространстве, которое создается вне стихотворения, я уже волен делать всё, что хочу. Ну да, это как бы моя уже территория.
Если бы я брал Шекспира, например, и резал бы его, добавлял свои куски — монологи строителей, не знаю, милиционера, бомжа — вот это было бы... что я на территорию драматурга захожу. Понимаешь?
Нет, объяснить в конце надо, конечно. Потому что точно те идеи, которые ты вкладываешь, они там не прочтут. Там надо либо в программе прописать, либо потом в конце объяснять.
Ну, если ты хочешь донести какое-то своё видение... почему ты берёшь именно эту проблему, почему именно такая форма... то, мне кажется, объяснять нужно.
Потому что человеческая мысль сейчас... она до такой степени деградировала, нейронные связи у людей — они не такие длинные.
Вот почему сейчас тяжело читать Достоевского или Толстого? Или того же Гоголя? Потому что у них одно предложение на одну страницу. К сожалению, на десятом слове уже эта цепь событий... она теряется.
Нет, объяснить в конце надо, конечно. Потому что точно те идеи, которые ты вкладываешь, они там не прочтут. Там надо либо в программе прописать, либо потом в конце объяснять.
Ну, если ты хочешь донести какое-то своё видение... почему ты берёшь именно эту проблему, почему именно такая форма... то, мне кажется, объяснять нужно.
Потому что человеческая мысль сейчас... она до такой степени деградировала, нейронные связи у людей — они не такие длинные.
Вот почему сейчас тяжело читать Достоевского или Толстого? Или того же Гоголя? Потому что у них одно предложение на одну страницу. К сожалению, на десятом слове уже эта цепь событий... она теряется.
МЫ УЖЕ ПРИВЫКЛИ ВОТ К ТАКОМУ... БОЛЕЕ РУБЛЕННОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМУ ТАКОМУ МЫШЛЕНИЮ.
— С какими мыслями ты возвращался в Татарстан?
— У меня, на самом деле... Так как меня пригласили главным режиссёром в русский ТЮЗ, я, как бы, думал, что вот, сейчас начнётся... Можно делать действительно то, что хочешь, в том объёме, в каком ты хочешь... В том качестве, в каком ты хочешь.
Но в репертуарном театре есть такое понятие как план, который нужно выполнять. То есть много таких вещей, под которыми должна стоять галочка. Невозможно, допустим, на год уйти в какой-то материал, погрузиться в него. Это система результата.
Поэтому мне приходилось с заядлой периодичностью... даже если ещё не было финансирования на спектакль, я уже начинал работу над ним. Чтобы не за 2 месяца выпускать. Там надо сразу практически результат — за 2 месяца выпустить… Мы месяцев 6-7 занимались этим материалом, чтобы более глубокое проникновение было. Вот, столкнувшись с системой, я попытался с ней как-то сосуществовать.
— У меня, на самом деле... Так как меня пригласили главным режиссёром в русский ТЮЗ, я, как бы, думал, что вот, сейчас начнётся... Можно делать действительно то, что хочешь, в том объёме, в каком ты хочешь... В том качестве, в каком ты хочешь.
Но в репертуарном театре есть такое понятие как план, который нужно выполнять. То есть много таких вещей, под которыми должна стоять галочка. Невозможно, допустим, на год уйти в какой-то материал, погрузиться в него. Это система результата.
Поэтому мне приходилось с заядлой периодичностью... даже если ещё не было финансирования на спектакль, я уже начинал работу над ним. Чтобы не за 2 месяца выпускать. Там надо сразу практически результат — за 2 месяца выпустить… Мы месяцев 6-7 занимались этим материалом, чтобы более глубокое проникновение было. Вот, столкнувшись с системой, я попытался с ней как-то сосуществовать.
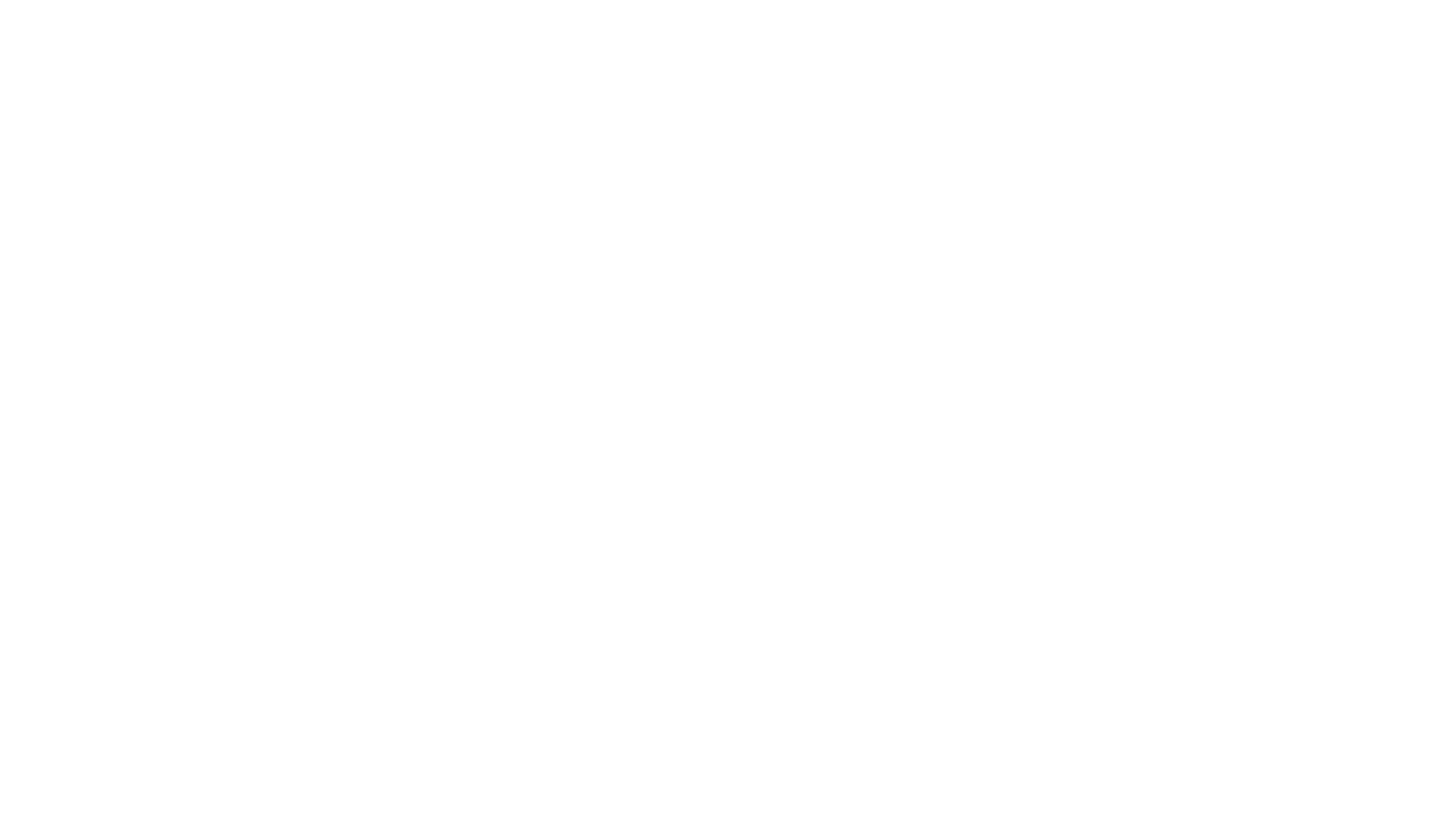
Ну вот над Достоевским работали. Мы там два раза перечитали роман, а он такой толстенный. Потом начали читать критику по этому роману и по всему творчеству Достоевского. Потом делали этюды долгое время... Это всё вот так зарождается.
Сейчас вот Маяковского готовим, всё творчество его читаем. Потом критику по этому всему тоже почитаем. Ну, чтобы это был такой некий пласт для самих артистов, которые пытаются осознать эту личность. Мы делаем материал «Владимир Маяковский. Трагедии», который он сам про себя писал 20 лет. Вот. Поэтому, надо его всего прочитать.
Вот так, мне кажется, правильно... правильнее чем быстро нашлёпать мизансцены, как бы... зазубрить слова и выйти... выполнить определённые нормы и требования.
Ну, то есть, когда я возвращался, я вообще не задумывался над этой проблемой, насчёт проблем системы.
Сейчас вот Маяковского готовим, всё творчество его читаем. Потом критику по этому всему тоже почитаем. Ну, чтобы это был такой некий пласт для самих артистов, которые пытаются осознать эту личность. Мы делаем материал «Владимир Маяковский. Трагедии», который он сам про себя писал 20 лет. Вот. Поэтому, надо его всего прочитать.
Вот так, мне кажется, правильно... правильнее чем быстро нашлёпать мизансцены, как бы... зазубрить слова и выйти... выполнить определённые нормы и требования.
Ну, то есть, когда я возвращался, я вообще не задумывался над этой проблемой, насчёт проблем системы.
КОГДА ТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО СТАЛКИВАЕШЬСЯ С НИМИ, ТОГДА У ТЕБЯ ВОЗНИКАЮТ, КОНЕЧНО, ТАКИЕ МЫСЛИ... ЧТО С ЭТОЙ СИСТЕМОЙ ДЕЛАТЬ И ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ В НЕЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ.
— То есть театр — это, в основном, система?
— Конечно, система. У нас само государство — оно в жёстком таком формате существует. И любое отклонение от генеральной линии — оно наказуемо. Мы видим это по Гоголь-центру, и по каким-то независимым арт-проектам... Всё, что связано с желанием что-то изменить — этого не сделаешь на финансировании местного бюджета. Поэтому все делается на деньги со стороны — от каких-то спонсоров, фондов и так далее. Или просто на свои деньги.
— Конечно, система. У нас само государство — оно в жёстком таком формате существует. И любое отклонение от генеральной линии — оно наказуемо. Мы видим это по Гоголь-центру, и по каким-то независимым арт-проектам... Всё, что связано с желанием что-то изменить — этого не сделаешь на финансировании местного бюджета. Поэтому все делается на деньги со стороны — от каких-то спонсоров, фондов и так далее. Или просто на свои деньги.
НО ДЕЛО ДАЖЕ НЕ В ФИНАНСАХ НА САМОМ ДЕЛЕ, ДЕЛО В ИДЕЕ. ЕСЛИ ИДЕЯ ХОРОШАЯ, В КАЗАНИ ЕСТЬ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ БУКВАЛЬНО ЗА КОПЕЙКИ ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ.
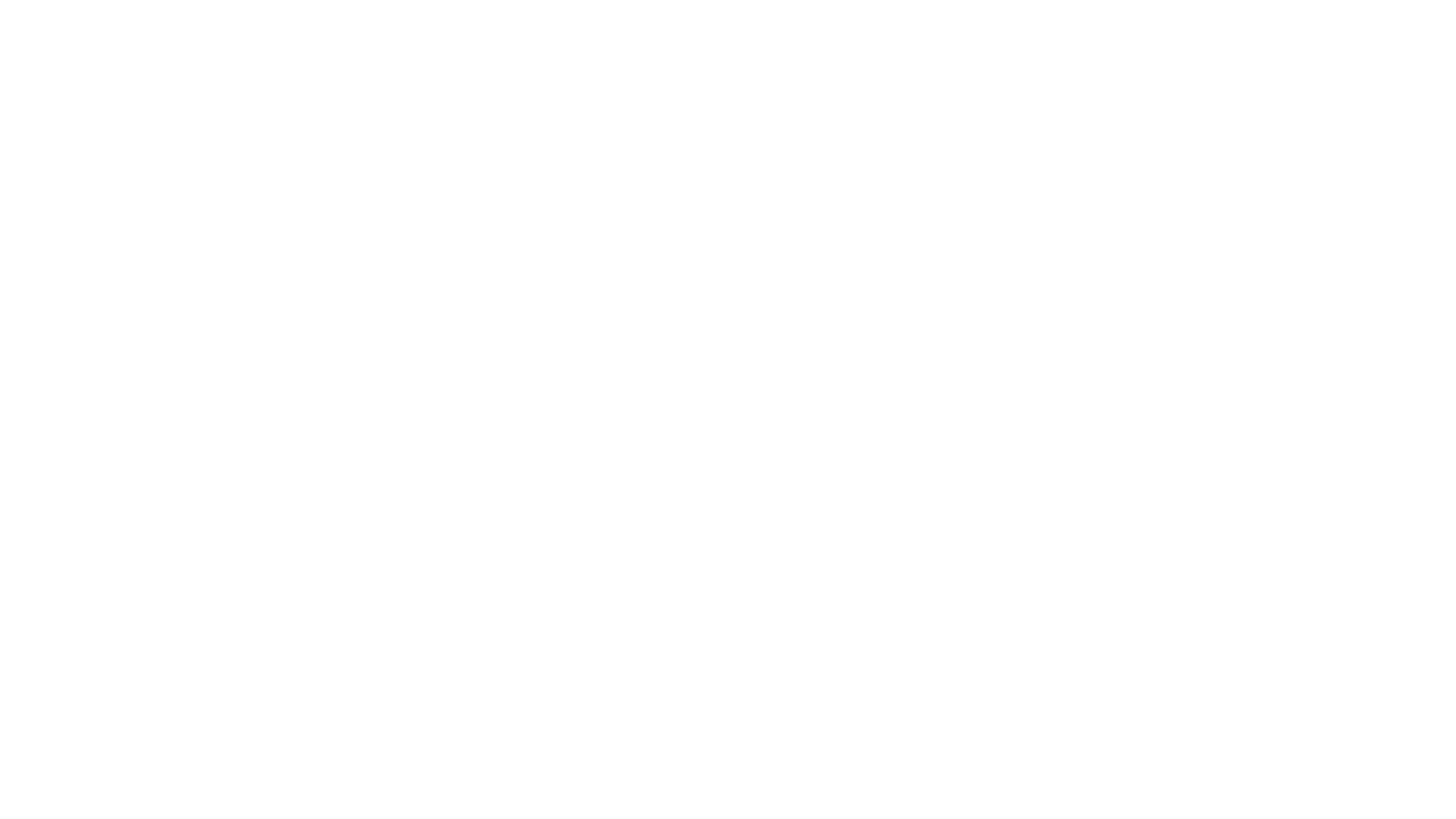
Они же постоянно обслуживают какие-то госмероприятия, и, в принципе, деньги у них есть. Но в творческом плане получается обслуживаешь... ну, как свадьбы... Да, будто фотографируешь свадьбы... Всё это с творчеством никак не связано. Поэтому многие готовы поделать какие-нибудь крутые вещи буквально за символическую плату. Но, к сожалению, таких идей или очень мало… или они боятся этой идеи.
— Да, но развитие ― это же, в основном, инициатива отдельных людей. Система ― она будто больше про сохранение, чем про развитие?
Ну, инициатива — да, но вот я просто думаю, насколько этих людей хватит, и хватит ли этих людей... Потому что это такой большой пласт на самом деле, который нужно сдвигать, а без определённого какого-то пространства и без финансирования сложно удержать людей… И потом, я не думаю, что на самом деле системе нужны какие-то изменения. Даже если окрываются новые площадки, даже если мы как бы движемся в сторону некой открытости, европеизма такого... Но по существу, изменённая форма есть, но содержание остается то же.
— И никогда это не изменится?
— Ну нет, однажды, конечно, что-то изменится. Я не знаю только когда... И что должно произойти.
— Да, но развитие ― это же, в основном, инициатива отдельных людей. Система ― она будто больше про сохранение, чем про развитие?
Ну, инициатива — да, но вот я просто думаю, насколько этих людей хватит, и хватит ли этих людей... Потому что это такой большой пласт на самом деле, который нужно сдвигать, а без определённого какого-то пространства и без финансирования сложно удержать людей… И потом, я не думаю, что на самом деле системе нужны какие-то изменения. Даже если окрываются новые площадки, даже если мы как бы движемся в сторону некой открытости, европеизма такого... Но по существу, изменённая форма есть, но содержание остается то же.
— И никогда это не изменится?
— Ну нет, однажды, конечно, что-то изменится. Я не знаю только когда... И что должно произойти.
У НАС ЕЩЁ МЕНТАЛИТЕТ ТАКОЙ. МЫ НЕ МОЖЕМ ОТ ЧАСТНОГО ИДТИ К ГЛОБАЛЬНОМУ. МЫ ОТ ЧАСТНОГО К ЧАСТНОМУ ДВИЖЕМСЯ. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО БОИМСЯ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ МЕСТЕЧКОВОСТЬ ТАКУЮ...
калфаклар, түбәтәйләр и так далее... Это... якобы, аутентичность такая, видимая, сувенирная.
Но на самом деле... мне кажется, просто в двух направлениях надо мыслить... В направлении прошлого, то есть того прошлого, которое мы не знаем, знаки которого уже не считываем... Потому что знаки, символы и былые следы утеряны. А, во-вторых, мыслить всё-таки категориями более глобальными.
Почему мы на татарском языке не можем говорить о глобальных каких-то мировых проблемах? То есть... почему на татарском языке мы должны говорить лишь о тех... местных проблемах... которые волнуют только татар? Вот этого я не понимаю.
Если у нас будет произведение, на... мировую какую-то тему... и нас начнут переводить на другие языки, это будет уже какая-то действительно победа, какой-то реальный результат... Потому что они... откликаются на современные, актуальные проблемы. Вот.
Но на самом деле... мне кажется, просто в двух направлениях надо мыслить... В направлении прошлого, то есть того прошлого, которое мы не знаем, знаки которого уже не считываем... Потому что знаки, символы и былые следы утеряны. А, во-вторых, мыслить всё-таки категориями более глобальными.
Почему мы на татарском языке не можем говорить о глобальных каких-то мировых проблемах? То есть... почему на татарском языке мы должны говорить лишь о тех... местных проблемах... которые волнуют только татар? Вот этого я не понимаю.
Если у нас будет произведение, на... мировую какую-то тему... и нас начнут переводить на другие языки, это будет уже какая-то действительно победа, какой-то реальный результат... Потому что они... откликаются на современные, актуальные проблемы. Вот.
— Как тебя изменил ГИТИС?
— Изменил? Ну вот, Олег Львович Кудряшов, у которого я учился… он и сейчас курсы набирает. В ГИТИСе, на режиссёрском факультете преподаёт. По моему ощущению, это один из лучших мастеров России вообще. Потому что он не ломает студентов под себя.
Олег Львович, он индивидуальность не ломает, поэтому у него все режиссёры совершенно разноплановые, и даже разножанровые, можно сказать. То есть, нельзя такой лейбл, как бы, поставить, что вот он с курса Кудряшова.
— Изменил? Ну вот, Олег Львович Кудряшов, у которого я учился… он и сейчас курсы набирает. В ГИТИСе, на режиссёрском факультете преподаёт. По моему ощущению, это один из лучших мастеров России вообще. Потому что он не ломает студентов под себя.
Олег Львович, он индивидуальность не ломает, поэтому у него все режиссёры совершенно разноплановые, и даже разножанровые, можно сказать. То есть, нельзя такой лейбл, как бы, поставить, что вот он с курса Кудряшова.
ОН, НАПРИМЕР, ЗА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОШИБКИ ОДНОГО МОЖЕТ ПОХВАЛИТЬ, А ДРУГОГО ЗА ЭТО ЖЕ НАРУГАТЬ.
То есть, вроде бы ошибка одна и та же... Но он понимает, что, допустим, у первого ― это его сильная сторона, он на этом акцент делает и зацикливается, а ему надо в другую сторону как бы двигаться и что-то другое пробовать. Поэтому он его ругает. А другого хвалит, потому что он только-только начал это делать, и, если его поругать, по рукам ударить, он больше к этому не будет прикасаться.
Такая вот система у него. С одной стороны, как будто несправедливо, но на самом деле он просто очень хороший педагог.
Ну вот теперь, когда я что-то ставлю, у меня всегда желание... как-то по-другому всё поставить. Потому что нельзя одними и теми же ключами открывать разных драматургов. Шекспира и Туфана Миннуллина, допустим.
Вот часто бывает так, что можно сразу узнать руку мастера, так сказать. Для него что Мольер, что Шекспир, что там какой-нибудь Пупкин, современный драматург — одно и то же. То есть, мне кажется, это... ну, совершенно разные образы, менталитет, язык другой. Поэтому надо по-другому всё делать.
Я отталкиваюсь от автора, от всего его творчества.
Ну, допустим, тот же Шекспир. Того же «Гамлет»а сыграть в мусорных баках для меня лично будет очень странно. Наверное, я этого не принимаю. Хотя я человек открытый в этом плане, к новым каким-то прочтениям... Я только за.
Такая вот система у него. С одной стороны, как будто несправедливо, но на самом деле он просто очень хороший педагог.
Ну вот теперь, когда я что-то ставлю, у меня всегда желание... как-то по-другому всё поставить. Потому что нельзя одними и теми же ключами открывать разных драматургов. Шекспира и Туфана Миннуллина, допустим.
Вот часто бывает так, что можно сразу узнать руку мастера, так сказать. Для него что Мольер, что Шекспир, что там какой-нибудь Пупкин, современный драматург — одно и то же. То есть, мне кажется, это... ну, совершенно разные образы, менталитет, язык другой. Поэтому надо по-другому всё делать.
Я отталкиваюсь от автора, от всего его творчества.
Ну, допустим, тот же Шекспир. Того же «Гамлет»а сыграть в мусорных баках для меня лично будет очень странно. Наверное, я этого не принимаю. Хотя я человек открытый в этом плане, к новым каким-то прочтениям... Я только за.
ПОТОМУ ЧТО ИСТИННОЕ ТВОРЧЕСТВО — ЭТО ТВОРЧЕСТВО ИНТЕРПРЕТАТОРА. ИНТЕРПРЕТИРУЕТСЯ И УЖЕ ГОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ, И ПРОСТРАНСТВО, И СОБЫТИЯ, И МИР.
Но это должно быть в соответствии с автором, с его образами и так далее.
— Ты говорил, что у нас форма меняется, а содержание нет. Как бы ты изменил содержание?
— Вот мы пытаемся сохранить эту местечковость свою. Любим залить все в бронзу, памятник поставить… И какие-то там пять лет... Ну ладно, не пяти, а пусть 20 лет люди ещё как-то будут помнить, цветы там будут появляться на день рождения этого… памятника. А потом, когда уйдёт поколение, знавшее татарскую культуру и даже татарский язык... Тогда никто вообще не будет обращать на этот памятник никакого внимания. И ещё через 20 лет этот памятник просто снесут и построят дом.
А смысл в чём? Бюджеты уходят на эту бронзу, а на развитие культуры, которое бы дало толчок для профессионального какого-то самоосознания... на это деньги не выделяются.
То есть, мы пытаемся мумифицировать и построить такой своеобразный мавзолей. Но однажды мы просто выкинем это всё как тухляк. То есть не мы, а следующие поколения.
— Ты говорил, что у нас форма меняется, а содержание нет. Как бы ты изменил содержание?
— Вот мы пытаемся сохранить эту местечковость свою. Любим залить все в бронзу, памятник поставить… И какие-то там пять лет... Ну ладно, не пяти, а пусть 20 лет люди ещё как-то будут помнить, цветы там будут появляться на день рождения этого… памятника. А потом, когда уйдёт поколение, знавшее татарскую культуру и даже татарский язык... Тогда никто вообще не будет обращать на этот памятник никакого внимания. И ещё через 20 лет этот памятник просто снесут и построят дом.
А смысл в чём? Бюджеты уходят на эту бронзу, а на развитие культуры, которое бы дало толчок для профессионального какого-то самоосознания... на это деньги не выделяются.
То есть, мы пытаемся мумифицировать и построить такой своеобразный мавзолей. Но однажды мы просто выкинем это всё как тухляк. То есть не мы, а следующие поколения.
Интервью — ЙОЛДЫЗ МИННУЛЛИНА
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор и фото — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор и фото — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)