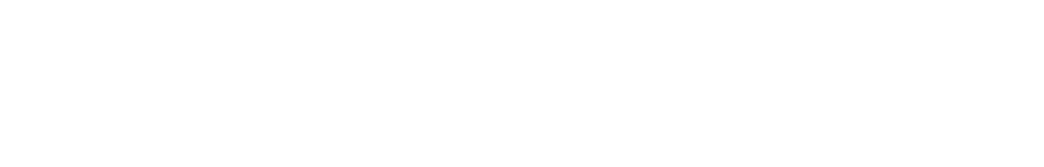С САМОГО НАЧАЛА У МЕНЯ БЫЛА КРЕПКАЯ УСТАНОВКА — ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО
НУРБЕК БАТУЛЛА
НУРБЕК БАТУЛЛА
С САМОГО НАЧАЛА У МЕНЯ БЫЛА КРЕПКАЯ УСТАНОВКА — ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО
Нурбек уехал в Санкт-Петербург с мыслью, что вернется татарским балетмейстером. Но после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства он вернулся, изменив отношение к искусству. Преподавал в Казанском хореографическом училище, работал хореографом театра имени Г.Кариева, вместе с творческим объединением «Алиф» привёз в Татарстан «Золотую маску». И теперь собирает свою первую мастерскую.
Нурбек уехал в Санкт-Петербург с мыслью, что вернется татарским балетмейстером. Но после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства он вернулся, изменив отношение к искусству. Преподавал в Казанском хореографическом училище, работал хореографом театра имени Г.Кариева, вместе с творческим объединением «Алиф» привёз в Татарстан «Золотую маску». И теперь собирает свою первую мастерскую.
С момента, как уехал в Петербург, я думал, что вернусь в Казань балетмейстером. И вернусь преподавать в училище, конечно. С первого дня так мечтал.
Как только узнавал что-то новое, сразу же хотелось привнести это в училище. Я думал: «наше училище и так хорошее, а если ещё и новые знания привезти, оно ведь ещё лучше станет». Потом совсем поменял профессию, но желание вернуться в училище не становилось меньше, напротив, только росло, потому что… открылось много новых приёмов, новых техник.
Как только узнавал что-то новое, сразу же хотелось привнести это в училище. Я думал: «наше училище и так хорошее, а если ещё и новые знания привезти, оно ведь ещё лучше станет». Потом совсем поменял профессию, но желание вернуться в училище не становилось меньше, напротив, только росло, потому что… открылось много новых приёмов, новых техник.
Моей первой мастерской было хореографическое училище. При разговоре кажется, что я часто вспоминаю про Петербург, на протяжении жизни я вспоминаю и о казанском училище, ведь я учился там восемь лет. Мы очень плотно учились, с утра до вечера. Это место, которое дало мне ремесло. И я ему благодарен. Оно научило меня танцевать, дало профессию.
Иногда я думаю, если бы не было возможности выехать за границу и если бы мой сын выбрал профессию танцора, то куда бы я его отдал... Я мечтал бы, даже если не на восемь лет, может, на четыре года, отдать его в наше училище. Там учат работать. Приходишь и каждый день делаешь одни и те же вещи. Учишься трудиться. Актерам драмы… некоторым… не достаёт этого — вот этой установки. А у танцора балета есть: в любом состоянии он приходит, делает свой тренаж. Хоть с похмелья, хоть с болезни. Потому что в голове есть эта установка. Для него это как зубы почистить. Поначалу, в детстве, возможно, нужна была воля, или чтобы кто-то мотивировал, или крики педагога… А потом впитывается всё это, с десяти-одиннадцати до восемнадцати лет — в самое время формирования личности — привыкаешь пахать, как лошадь.
Иногда я думаю, если бы не было возможности выехать за границу и если бы мой сын выбрал профессию танцора, то куда бы я его отдал... Я мечтал бы, даже если не на восемь лет, может, на четыре года, отдать его в наше училище. Там учат работать. Приходишь и каждый день делаешь одни и те же вещи. Учишься трудиться. Актерам драмы… некоторым… не достаёт этого — вот этой установки. А у танцора балета есть: в любом состоянии он приходит, делает свой тренаж. Хоть с похмелья, хоть с болезни. Потому что в голове есть эта установка. Для него это как зубы почистить. Поначалу, в детстве, возможно, нужна была воля, или чтобы кто-то мотивировал, или крики педагога… А потом впитывается всё это, с десяти-одиннадцати до восемнадцати лет — в самое время формирования личности — привыкаешь пахать, как лошадь.
— Сознательно ли выбирается этот путь — в 10-11 лет?
— Ну, у девочек бывает какой-то такой мощный архетип. Вот хочу быть балериной и всё. Такое я часто встречаю. А у парней уж… Либо мама сказала… Либо папа…
Нет, ну, в моём случае это как-то…очень мягкий вариант получился… Мы ходили на балет. На Нуриевском фестивале хотя бы один-два балета должны были посмотреть… вот такое странное… правило. В Шаляпинском хотя бы одну-две оперы. Время от времени ходили так, надев каракулевые шапки, в такой… в торжественном виде. Во время антракта папа подводил к оркестровой яме и рассказывал: «Вот это — кларнет, это — то-то». Во время представления попутно объяснял сюжет: «Вот он влюбился, то случилось, сё случилось…» Ну, то есть как бы… не сидишь там, не скучаешь. Перед этим подготавливал: «Кто ещё композитор «Жизель»? Если отвечаешь правильно, то уже гордишься. Вот какие-то такие… приёмы, да… папа использовал.
Это, ну, супервариант. Редко встречающийся. Как-то объясняя, мотивируя… «Нуриев! Гений! Остров купил, танцуя балет, — как бы. — Вот он… реформу совершил в балете!» Даже рассказы о Нуриеве уже так вдохновляли: «Он в восемнадцать лет поступил»! Я на год позже поступил в училище. Ну, скажем, если люди в 10 лет поступают, то я в 11 лет поступил. А Нуриев только в 18. Очень много трудясь. Ну смотришь фотографии потом. Какая-то мощная мотивация была у меня. С одной стороны.
— Ну, у девочек бывает какой-то такой мощный архетип. Вот хочу быть балериной и всё. Такое я часто встречаю. А у парней уж… Либо мама сказала… Либо папа…
Нет, ну, в моём случае это как-то…очень мягкий вариант получился… Мы ходили на балет. На Нуриевском фестивале хотя бы один-два балета должны были посмотреть… вот такое странное… правило. В Шаляпинском хотя бы одну-две оперы. Время от времени ходили так, надев каракулевые шапки, в такой… в торжественном виде. Во время антракта папа подводил к оркестровой яме и рассказывал: «Вот это — кларнет, это — то-то». Во время представления попутно объяснял сюжет: «Вот он влюбился, то случилось, сё случилось…» Ну, то есть как бы… не сидишь там, не скучаешь. Перед этим подготавливал: «Кто ещё композитор «Жизель»? Если отвечаешь правильно, то уже гордишься. Вот какие-то такие… приёмы, да… папа использовал.
Это, ну, супервариант. Редко встречающийся. Как-то объясняя, мотивируя… «Нуриев! Гений! Остров купил, танцуя балет, — как бы. — Вот он… реформу совершил в балете!» Даже рассказы о Нуриеве уже так вдохновляли: «Он в восемнадцать лет поступил»! Я на год позже поступил в училище. Ну, скажем, если люди в 10 лет поступают, то я в 11 лет поступил. А Нуриев только в 18. Очень много трудясь. Ну смотришь фотографии потом. Какая-то мощная мотивация была у меня. С одной стороны.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, В ПЯТОМ КЛАССЕ ПАПА МНЕ ГОВОРИТ: «ТЕБЕ НУЖНО бы ВЫБРАТЬ уже РЕМЕСЛО. такое, чтобы могло тебя прокормить»
Ну, папа в возрасте был уже, видимо… возможно, думал, что может умереть… Вот это его главная головная боль была: пусть у меня будет профессия, приносящая хлеб. Ну, как бы… Казалось, наверное, что танцор хоть как, хоть на банкетах танцуя, сможет себя прокормить. И вот в пятом классе говорит вдруг: «Улым, вот сейчас два варианта есть. Либо сейчас в училище поступаешь. Сходим, разузнаем. Причем в октябре — такой тоже… импульсивный, да, папа — с опозданием на один год и один месяц. Сам поздно узнал, наверное. Либо через два года в татарско-турецкий лицей… поступишь учиться».
Во времена, когда лицей открывался, папа сам тоже там преподавал. Поэтому и к этой системе у меня была какая-то мотивация. Для меня решающим моментом стало то, что в турецком лицее мальчики отдельно, девочки отдельно учатся. Почему-то очень важно мне было присутствие девочек. Ну, правда. Поэтому я выбрал балет. Интуитивно… Мой темперамент не такой, чтобы подолгу сидеть за уроками, изучать языки…А в балете — движение. Между делом и похулиганить можешь.
И девочки тоже. В пятом классе на простой танец… был такой танец — «Суворовцы» назывался. На него меня ставили с девочкой, в которую я был влюблён. Ну, я просто получал удовольствие, конечно. Не мог оторвать взгляд от неё. И меня хвалили: «Вот, смотрите, как с партнёршей нужно танцевать. Остальные двигаются, думая о движениях, а я просто глаз оторвать не могу…
Со стороны хулиганства тоже — совсем это… диким я был. С этой стороны, самое большое влияние в жизни было, наверное, в «Сәләт»е (летние образовательные детские лагеря). Ну, во-первых, татарская среда. Во-вторых, познакомились с Тимуром (Тимур Сулейманов — на сегодняшний день первый заместитель министра по делам молодежи РТ), и это стало поворотным моментом. Вернувшись с этих каникул, я уже совсем по-другому начал учиться. И общеобразовательные предметы, и танец. Как-то на примере Тимура понял, что можно хорошо учиться и при этом быть нормальным парнем. Раньше это… для меня это было двумя разными вещами. Парни, которые хорошо учатся, немного ненормальные как бы. Тимур научил меня дисциплине, так сказать. Он ведь даже если сам очень озорной, умеет это всё к месту сделать.
Хотя ещё один разговор у меня в памяти, ещё раньше. Когда разговаривал с Надиром Багавиевым (ракетостроитель, основатель компании BagaveevCorporation, живет в Америке). Он ведь себя гением считал — ещё в то время.
И девочки тоже. В пятом классе на простой танец… был такой танец — «Суворовцы» назывался. На него меня ставили с девочкой, в которую я был влюблён. Ну, я просто получал удовольствие, конечно. Не мог оторвать взгляд от неё. И меня хвалили: «Вот, смотрите, как с партнёршей нужно танцевать. Остальные двигаются, думая о движениях, а я просто глаз оторвать не могу…
Со стороны хулиганства тоже — совсем это… диким я был. С этой стороны, самое большое влияние в жизни было, наверное, в «Сәләт»е (летние образовательные детские лагеря). Ну, во-первых, татарская среда. Во-вторых, познакомились с Тимуром (Тимур Сулейманов — на сегодняшний день первый заместитель министра по делам молодежи РТ), и это стало поворотным моментом. Вернувшись с этих каникул, я уже совсем по-другому начал учиться. И общеобразовательные предметы, и танец. Как-то на примере Тимура понял, что можно хорошо учиться и при этом быть нормальным парнем. Раньше это… для меня это было двумя разными вещами. Парни, которые хорошо учатся, немного ненормальные как бы. Тимур научил меня дисциплине, так сказать. Он ведь даже если сам очень озорной, умеет это всё к месту сделать.
Хотя ещё один разговор у меня в памяти, ещё раньше. Когда разговаривал с Надиром Багавиевым (ракетостроитель, основатель компании BagaveevCorporation, живет в Америке). Он ведь себя гением считал — ещё в то время.
РАЗГОВАРИВАЕМ ПРО ГЕНИЕВ, ГЕНИАЛЬНОСТЬ. ГОВОРЮ: «А Я ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ, Я ВЕДЬ ТАНЦОР?» ОН ГОВОРИТ: «НУ, ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ ГЕНИЕМ ТЕЛА».
Вроде бы простой разговор, но эта мысль очень сильно впиталась в меня. И она как-то росла… На первом курсе я начал заниматься брейк-дансом. То есть я подумал, конечно: раз гений тела, то ты не должен ограничивать себя только одним направлением. Потом, что ещё… нельзя высокомерничать. Танцоры балета ведь не могут выполнить и половину из того, что умеют уличные танцоры. Во-первых, разная специфика, во-вторых, он просто никогда не пробовал так делать. На протяжении восьми лет он тренировал другие вещи.
А почему именно в брейк-данс пошёл… я один номер увидел. На кассете. Мне говорят, слушай, мы одного парня видели, танцует современные танцы, на тебя немного похож, говорят. Это номер «Полёт шмеля». Я посмотрел и влюбился — в этом одноминутном ролике (ещё в то время и про контемпорари не знаю, и про современный танец не знаю) смотрю и понять не могу: что делает этот парень? И какие-то классические движения есть, но тело мягкое. Он может делать тело и твердым, и мягким. Встал на одну руку, сделал какое-то движение. А нас ведь не учат вставать на одну руку. И я начал это анализировать: так, что нужно мне сделать, чтобы встать на одну руку? Нужно записаться на брейк-данс.
Вот так записался на брейк-данс, чтобы повторить этот номер, насколько смогу повторить. И повторил, и он супер выстрелил как бы. Это было моей визитной карточкой очень долгое время. И училища тоже, можно сказать. Даже в фестивале Нуриева участвовал — будучи студентом. Может, сейчас такие случаи есть уже, но в тот момент это был беспрецедентный случай. Слова Надира вот так взросли, да.
И брейк-данс сразу же начал работать на пользу в училище. Пришел хореограф ставить спектакль «Снежная королева». Мне попалась роль Тролля. Ну, прямо моё амплуа. Это был такой первый опыт, наверное… Живой хореограф, и не повторение того, что ставили сто лет назад, и вот этот хореограф разговаривает с тобой. Вопросы задает. Спрашивает: «Что ты можешь сделать? Можешь исполнить трюки, которые не делаются в балете»? Вот именно этого момента ведь и ждёшь, это… когда где-нибудь чем-то занимаешься, то ведь начинаешь хотеть этим поделиться, а возможности нет. И вдруг тебе дают возможность. И я начал показывать, а он всё это использовал в монологе Тролля… так можно сказать. Это был очень интересный опыт. Но училище почему-то не проанализировало его.
А почему именно в брейк-данс пошёл… я один номер увидел. На кассете. Мне говорят, слушай, мы одного парня видели, танцует современные танцы, на тебя немного похож, говорят. Это номер «Полёт шмеля». Я посмотрел и влюбился — в этом одноминутном ролике (ещё в то время и про контемпорари не знаю, и про современный танец не знаю) смотрю и понять не могу: что делает этот парень? И какие-то классические движения есть, но тело мягкое. Он может делать тело и твердым, и мягким. Встал на одну руку, сделал какое-то движение. А нас ведь не учат вставать на одну руку. И я начал это анализировать: так, что нужно мне сделать, чтобы встать на одну руку? Нужно записаться на брейк-данс.
Вот так записался на брейк-данс, чтобы повторить этот номер, насколько смогу повторить. И повторил, и он супер выстрелил как бы. Это было моей визитной карточкой очень долгое время. И училища тоже, можно сказать. Даже в фестивале Нуриева участвовал — будучи студентом. Может, сейчас такие случаи есть уже, но в тот момент это был беспрецедентный случай. Слова Надира вот так взросли, да.
И брейк-данс сразу же начал работать на пользу в училище. Пришел хореограф ставить спектакль «Снежная королева». Мне попалась роль Тролля. Ну, прямо моё амплуа. Это был такой первый опыт, наверное… Живой хореограф, и не повторение того, что ставили сто лет назад, и вот этот хореограф разговаривает с тобой. Вопросы задает. Спрашивает: «Что ты можешь сделать? Можешь исполнить трюки, которые не делаются в балете»? Вот именно этого момента ведь и ждёшь, это… когда где-нибудь чем-то занимаешься, то ведь начинаешь хотеть этим поделиться, а возможности нет. И вдруг тебе дают возможность. И я начал показывать, а он всё это использовал в монологе Тролля… так можно сказать. Это был очень интересный опыт. Но училище почему-то не проанализировало его.
ТО ЕСТЬ НАМ, КОНЕЧНО ЖЕ, БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО ЗАНИМАТЬСЯ В ДРУГИХ МЕСТАХ, НО ПРО МОИ ЗАНЯТИЯ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛИ, ПРИКИДЫВАЛИСЬ, ЧТО НЕ ЗНАЮТ. НО ЭТОТ МОНОЛОГ ВЕДЬ ПРОИЗОШЁЛ ПЕРЕД ИХ ГЛАЗАМИ.
Учителя смотрят на работу хореографа, видят результат, видят, что выходит интересная штука… от соединения не подходящих друг к другу движений. Но почему-то вот… они его не проанализировали.
Ну, в училище система такая, с тобой там особо не разговаривают. Такая вот… восточная… Немного как в Шаолиньском монастыре там. Учитель говорит, критикует, ты терпишь и слушаешь. Ну, и привыкаешь к этому.
Коллеги рассказали, несколько лет назад Пришёл Владимир Васильев — известный танцор — пришёл и говорит значит танцорам балета: я сейчас музыку поставлю… вы, пожалуйста, импровизируйте, кто как хочет, так и танцуйте. В театре оперы и балета. Артистам. Поставил музыку, вроде бы Бах был, если не ошибаюсь, около двадцати минут идёт этот трек… На протяжении двадцати минут ни один человек даже с места не сдвинулся… Даже шагу не сделали.
Вот такие особенности есть. Если эти их решить, то есть если добавить в техническую базу какие-то другие, более прогрессивные взгляды, то я думаю, было бы супер.
Ну, в училище система такая, с тобой там особо не разговаривают. Такая вот… восточная… Немного как в Шаолиньском монастыре там. Учитель говорит, критикует, ты терпишь и слушаешь. Ну, и привыкаешь к этому.
Коллеги рассказали, несколько лет назад Пришёл Владимир Васильев — известный танцор — пришёл и говорит значит танцорам балета: я сейчас музыку поставлю… вы, пожалуйста, импровизируйте, кто как хочет, так и танцуйте. В театре оперы и балета. Артистам. Поставил музыку, вроде бы Бах был, если не ошибаюсь, около двадцати минут идёт этот трек… На протяжении двадцати минут ни один человек даже с места не сдвинулся… Даже шагу не сделали.
Вот такие особенности есть. Если эти их решить, то есть если добавить в техническую базу какие-то другие, более прогрессивные взгляды, то я думаю, было бы супер.
Например, та же растяжка. Ну, такой технический момент, конечно — растяжка очень сложно дается в училище… А есть, например, йога. Человек, занимающийся йогой… очень быстро… за несколько месяцев может сделать себе хорошую растяжку. Я думал, почему её не ввести в учебную систему? Пусть будет два-три раза в неделю. Два раза пусть будет, окей. Вреда не приносит, точно, а пользы очень много будет. Почему не рассказывать артистам о драматическом театре? Почему не преподавать им актёрское мастерство, как в драматическом театре? Почему с ними не разговаривают?
Когда начал учиться в Питере, я даже немного почувствовал обиду: «Вот в семидесятых годах была Пина Бауш, творила в семидесятых годах, а сейчас 2012-ый год — и нам о ней ничего не рассказывали». Я на протяжении одиннадцати лет был лишён этих знаний, одиннадцать лет вот… Жил в Советском Союзе, и вдруг там и Битлз был, и джаз был, и так танцевать, и так одеваться, оказывается, можно…
Хотя до этого ещё когда мне было 18, Искандер Хайруллин говорил: «Посмотри Пину Бауш».
Когда начал учиться в Питере, я даже немного почувствовал обиду: «Вот в семидесятых годах была Пина Бауш, творила в семидесятых годах, а сейчас 2012-ый год — и нам о ней ничего не рассказывали». Я на протяжении одиннадцати лет был лишён этих знаний, одиннадцать лет вот… Жил в Советском Союзе, и вдруг там и Битлз был, и джаз был, и так танцевать, и так одеваться, оказывается, можно…
Хотя до этого ещё когда мне было 18, Искандер Хайруллин говорил: «Посмотри Пину Бауш».
Я ПРИШЁЛ ДОМОЙ, ПОСМОТРЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ И НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. «ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА?», — ТОГДА ПОДУМАЛ. ИСКРЕННЕ ТАК ПОДУМАЛ, КАКАЯ ЕРУНДА, ЭТИ ЛЮДИ — ОНИ ВЕДЬ ТАНЦЕВАТЬ НЕ УМЕЮТ.
«Что они надувают, я же вижу уж, ни пируэт не сделал, ни прыгнул, ни растяжку не показал, чего они там ходят...» То есть, это как бы был такой конвейер по созданию такого сознания. Да, я вышел из него, расширил свое восприятие, но это ведь… случайно… исключение просто. Ну, папа, наверное, был немного другой почвы... Потом, на протяжении восьми лет, папа всегда меня мотивировал. Рассказывал про Нуриева там, водил в музеи…
Ну, когда я вернулся, училище оставалось таким же, там ничего не изменилось. Да, я вернулся в училище. Тут же взяли — преподавать актёрское мастерство. Никто даже не обсуждал. Ну, на красный диплом закончил училище, хорошим учеником считался. Только ведь они меня шесть лет не видели. За шесть лет мои взгляды на мир, на искусство, на танец ведь изменились… Дали курс. И даже не заходили, не проверяли, только на экзамен пришли. Пришли да… И…
Просто в шоке были. Это… Не сказать, что были разгневаны. Они не были гневны. Они просто… Что это было? Ты что наделал? Я очень долго старался объяснить, что мы делаем, на всё у меня были аргументы. Почему ты не выполняешь программу, говорят. Я говорю, ну, программу мы прошли, в театре эта программа… не особо оказалась нужна. Ну, если вдруг нужна, то её все равно более взрослый и опытный артист тебе показывает, вот так делай… братец. Братец, здесь делай вот так… Придя в театр, заново учишься этому.
Ну, то да сё, в нашей мастерской как говорили: мы может и не даём вам каких-то конкретных знаний, мы обучаем вас учиться. Быть гибкими. Я тоже думал так работать. Потому что мне дали курс народных танцев.
Ну, когда я вернулся, училище оставалось таким же, там ничего не изменилось. Да, я вернулся в училище. Тут же взяли — преподавать актёрское мастерство. Никто даже не обсуждал. Ну, на красный диплом закончил училище, хорошим учеником считался. Только ведь они меня шесть лет не видели. За шесть лет мои взгляды на мир, на искусство, на танец ведь изменились… Дали курс. И даже не заходили, не проверяли, только на экзамен пришли. Пришли да… И…
Просто в шоке были. Это… Не сказать, что были разгневаны. Они не были гневны. Они просто… Что это было? Ты что наделал? Я очень долго старался объяснить, что мы делаем, на всё у меня были аргументы. Почему ты не выполняешь программу, говорят. Я говорю, ну, программу мы прошли, в театре эта программа… не особо оказалась нужна. Ну, если вдруг нужна, то её все равно более взрослый и опытный артист тебе показывает, вот так делай… братец. Братец, здесь делай вот так… Придя в театр, заново учишься этому.
Ну, то да сё, в нашей мастерской как говорили: мы может и не даём вам каких-то конкретных знаний, мы обучаем вас учиться. Быть гибкими. Я тоже думал так работать. Потому что мне дали курс народных танцев.
Я знаю, ансамбли народных танцев — они сейчас в предсмертном состоянии. У них нет роста, они живут только прошлым, тем, что было. Сегодня-завтра могут исчезнуть, останутся только самые образцовые.
И сотням людей нужно будет искать другую работу. Им нужно быть гибкими. Может в клипах придется танцевать, возможно, не знаю, контемпорари освоить… Поэтому мы как-то так старались работать. И это всё тяжело шло. Два занятия в неделю: я прихожу, разговариваем, одно занятие уходит на это — просто на разговор. В другой день ещё одно занятие. А через неделю начинаем заново. Потому что остальные дни ведь проходят в той системе.
Так, только в одиночку ничего не сможешь сделать — это я понял, потому что в таком случае ты должен быть с ними 24 часа. В нашей Театральной академии так оно и было: все педагоги — сторонники одной философии. А тут вдруг какой-то Нурбек пришел, начал предлагать какую-то свою философию.
Ну, они прямо… в шоке были, конечно — педагоги училища. Если сказать, что не поняли, будет совсем уж пафосно… Но, наверное, примерно так. Только потом я начал задумываться: в чужой монастырь со своим уставом не лезут ведь. На самом деле, если я чувствую какую-то истину, я должен попробовать сам её сделать (реализовать). Могу попробовать. Не загоняя себя в эти рамки. Потому что так… И им не удобно, и мне…
И сотням людей нужно будет искать другую работу. Им нужно быть гибкими. Может в клипах придется танцевать, возможно, не знаю, контемпорари освоить… Поэтому мы как-то так старались работать. И это всё тяжело шло. Два занятия в неделю: я прихожу, разговариваем, одно занятие уходит на это — просто на разговор. В другой день ещё одно занятие. А через неделю начинаем заново. Потому что остальные дни ведь проходят в той системе.
Так, только в одиночку ничего не сможешь сделать — это я понял, потому что в таком случае ты должен быть с ними 24 часа. В нашей Театральной академии так оно и было: все педагоги — сторонники одной философии. А тут вдруг какой-то Нурбек пришел, начал предлагать какую-то свою философию.
Ну, они прямо… в шоке были, конечно — педагоги училища. Если сказать, что не поняли, будет совсем уж пафосно… Но, наверное, примерно так. Только потом я начал задумываться: в чужой монастырь со своим уставом не лезут ведь. На самом деле, если я чувствую какую-то истину, я должен попробовать сам её сделать (реализовать). Могу попробовать. Не загоняя себя в эти рамки. Потому что так… И им не удобно, и мне…
АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПЛАНЕТЫ, РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО. ДЛЯ МЕНЯ ИСКУССТВО — ЭТО КАК… ШАНС, ВОЗМОЖНОСТЬ… ПОПРОБОВАТЬ БЫТЬ ИСКРЕННИМ.
А балет, особенно классический балет, в частности русский классический балет он — построен на форме, там… искренность не занимает значительного места. Эти два разных взгляда, наверное, и вошли в конфликт.
— В одной лекции Акунина была такая мысль: культуре можно научить, но искусству нельзя. То есть, культура — это то, что когда-то было искусством, это искусство, ограниченное определёнными рамками, канонами, на которые общество было согласно и готово принять. То есть определённое искусство… так сказать форма… у которой увеличивается количество сторонников, превращает её в культуру. Но искусство само — оно не может быть массовым, оно ломает культурные границы определённых людей, заставляет подняться на другую высоту. Поэтому ему и нельзя научить. И школы искусств, получается, готовят служителей культуры.
— Да, только знаешь, что рождает обиду? Если исходить из этого разделения, то получается такая ситуация: что в мире уже считается культурой — в Татарстане до сих пор считается искусством. Вот мои некоторые акции до сих пор кажутся эпатажными. Они и эпатажны — для Татарстана. То есть мировая культура ведь уже в начале ХХ века всё это прошла, и в 60-х годах была новая волна… Вот, например, есть известный русский хореограф Эйфман. Ну, российский хореограф. Трудится для русской культуры, несмотря на то, что еврей. Он здесь таким очень современным считался. Ему предложили уехать в Америку, он отказался. И я его хорошо понимаю, с одной стороны. Такие биографические балеты он ставит, «Чайковский» там… То есть для русского балета на самом деле что-то новое как бы. Но для заграницы это совсем не ново, во-первых. Во-вторых, Чайковский — это для нас, для россиян очень ценный персонаж. Ну, то есть он с русской культурой сильно связан. И я сейчас думаю, вот если я уеду за рубеж, здесь искусство ведь запрещённая вещь — если рассуждать критериями Акунина, да — там уже давно культура… Там методики есть свои…
— Да, это ведь и пугает: страх того, что чужое войдет и ничего своего не останется. Возможно, эти поиски — не были бы так страшны, если бы их ещё совсем в мире не было. А так, старание не пускать что-то извне сродни попытке сохраниться, закрывшись в кокон. Лучше мы ничего не будем менять, будем сохранять, что есть, и не будем меняться, смотря на других…
— Ну, если посмотреть на мировой опыт, то эта модель всё-таки ведет к поражению, по-моему. Вот русский балет такую тактику выбрал, да… И она привела к поражению. Потому что есть классические произведения, которыми мы гордимся и хвалимся за рубежом, и есть современные оригинальные произведения, которые никто не видел. То есть, скажем, среднестатистический хороший танцор в Гранд-Опера работает 50% — на классике, 50% — на современном. А у нас и классика в предсмертном состоянии, и современного нет. Поэтому эта модель себя с отрицательной стороны показала. Ну, я исходя из балета говорю.
— В одной лекции Акунина была такая мысль: культуре можно научить, но искусству нельзя. То есть, культура — это то, что когда-то было искусством, это искусство, ограниченное определёнными рамками, канонами, на которые общество было согласно и готово принять. То есть определённое искусство… так сказать форма… у которой увеличивается количество сторонников, превращает её в культуру. Но искусство само — оно не может быть массовым, оно ломает культурные границы определённых людей, заставляет подняться на другую высоту. Поэтому ему и нельзя научить. И школы искусств, получается, готовят служителей культуры.
— Да, только знаешь, что рождает обиду? Если исходить из этого разделения, то получается такая ситуация: что в мире уже считается культурой — в Татарстане до сих пор считается искусством. Вот мои некоторые акции до сих пор кажутся эпатажными. Они и эпатажны — для Татарстана. То есть мировая культура ведь уже в начале ХХ века всё это прошла, и в 60-х годах была новая волна… Вот, например, есть известный русский хореограф Эйфман. Ну, российский хореограф. Трудится для русской культуры, несмотря на то, что еврей. Он здесь таким очень современным считался. Ему предложили уехать в Америку, он отказался. И я его хорошо понимаю, с одной стороны. Такие биографические балеты он ставит, «Чайковский» там… То есть для русского балета на самом деле что-то новое как бы. Но для заграницы это совсем не ново, во-первых. Во-вторых, Чайковский — это для нас, для россиян очень ценный персонаж. Ну, то есть он с русской культурой сильно связан. И я сейчас думаю, вот если я уеду за рубеж, здесь искусство ведь запрещённая вещь — если рассуждать критериями Акунина, да — там уже давно культура… Там методики есть свои…
— Да, это ведь и пугает: страх того, что чужое войдет и ничего своего не останется. Возможно, эти поиски — не были бы так страшны, если бы их ещё совсем в мире не было. А так, старание не пускать что-то извне сродни попытке сохраниться, закрывшись в кокон. Лучше мы ничего не будем менять, будем сохранять, что есть, и не будем меняться, смотря на других…
— Ну, если посмотреть на мировой опыт, то эта модель всё-таки ведет к поражению, по-моему. Вот русский балет такую тактику выбрал, да… И она привела к поражению. Потому что есть классические произведения, которыми мы гордимся и хвалимся за рубежом, и есть современные оригинальные произведения, которые никто не видел. То есть, скажем, среднестатистический хороший танцор в Гранд-Опера работает 50% — на классике, 50% — на современном. А у нас и классика в предсмертном состоянии, и современного нет. Поэтому эта модель себя с отрицательной стороны показала. Ну, я исходя из балета говорю.
Вот когда последний раз русский балет вызывал трепет в мире? Григорович… в 70-х годах… ставит «Ивана Грозного»… После этого особо и нет хореографов, работающих с такими большими формами. Ну, Ратманский есть, но он больше в форме постмодерна работает… С издевательством… над прошлым. В таком направлении идёт. Он тоже уже в Америке сейчас. Даже он тоже тут… видимо казался эпатажным хореографом. Совсем ведь безопасные вещи делал.
ПОЭТОМУ ВСЁ-ТАКИ, НАВЕРНОЕ, НУЖНО ОТКРЫВАТЬСЯ. НО И У ЭТОГО ПУТИ ЕСТЬ СВОЯ ПЛАТА, НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ ЕЁ ЗАПЛАТИТЬ. ЭТО НЕЛёГКИЙ ПУТЬ. ОЧЕНЬ МНОГО ПРОТИВНЫХ, БЕСТОЛКОВЫХ ВЕЩЕЙ БУДЕТ, И НЕУДАЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ БУДУТ…
Их должно быть очень много. Это плата. Но среди них одна на полшага выйдет вперед. И вот если критической массы будет много, если мы будем много ошибаться, потом, может быть, будем готовы сказать что-то новое в мировом масштабе.
— А если мы не поймём и пойдём по ложному пути? Гарантии ведь нет.
— А так есть гарантия — умрёшь. Поэтому в том, чтобы открыться, даже если и есть риск, есть надежда. А тут риска нет, но и надежды нет. Какая надежда может быть в сохранении прошлого?
— Возможно, балету для раскрытия не хватает объяснения того, что есть? Чтобы родился спрос на другой балет? Ведь этот балет — который ты и другие представители балета суперпоняли — представители других видов искусств и, вообще, люди не связанные с искусством, может они ещё и не совсем его поняли?
— Возможно. Очень ведь закрытая система — балет. Хочешь понять — понимай. Когда я начал учиться в консерватории, тогда и сам начал лучше понимать, одна мысль пришла. Бывают ведь такие идеи, которые остаются идеями. У меня была идея передачи сделать: как бы гопник в лосинах… объясняет другим гопникам смысл балета. В то время ещё ютубов никаких нет, я думал сделать какую-нибудь рубрику внутри программы «Яшьләр тукталышы» (Молодёжная остановка) на ТНВ. Потому что гопников в балете… было очень много… в один период. Сейчас вроде стало меняться, это волнообразно… Вот в Советское время тоже гопников много было. Дети из детдомов. Ревдар Садыйков, например, ребёнок из детдома, он очень крутым танцором был в нашем театре. Ну, была такая одна волна. И когда мы учились тоже как раз дети 80-90-х годов ведь. Потом вот перед глазами начало меняться, ну, заметно ведь — по причёске, по разговору, по интересам. Другое поколение начало приходить.
В Петербурге вот есть люди, объясняющие балет. Богдан Королёк очень хороший парень. Он сейчас суперкрутой балетовед. В своё время, перед тем, как я ушёл из консерватории, он был моим артистом. Ну, он танцор сам. На мой номер попал. Этот номер Ильдар, я и вот бедняга Богдан готовили. Замучали мы его. Но многие вещи поняли — и для Богдана это был важный момент.
Ильдар Мусин, он в Узбекистане родился: его родители переехали туда. Когда он учился в школе, они вернулись обратно. В Альметьевск. Там он ходил в музыкальную школу. Потом приехал в Казань, поступил учиться на оперного певца. И параллельно учился в театральном училище.
Мы познакомились в Петербурге, когда я поступал на режиссуру балета, а он на режиссёра оперы. Жили в одной комнате в общежитии. И вуз он первым поменял — поступил в Театральную академию. Я ещё один год учился в консерватории. Он рассказывал и объяснял мне всё, что узнал в академии. Потом и я поменял вуз, но комнату не меняли. Там было общее общежитие.
Сейчас он получает духовное образование. Во время каникул возвращается в Петербург, даёт мастер-классы.
— А если мы не поймём и пойдём по ложному пути? Гарантии ведь нет.
— А так есть гарантия — умрёшь. Поэтому в том, чтобы открыться, даже если и есть риск, есть надежда. А тут риска нет, но и надежды нет. Какая надежда может быть в сохранении прошлого?
— Возможно, балету для раскрытия не хватает объяснения того, что есть? Чтобы родился спрос на другой балет? Ведь этот балет — который ты и другие представители балета суперпоняли — представители других видов искусств и, вообще, люди не связанные с искусством, может они ещё и не совсем его поняли?
— Возможно. Очень ведь закрытая система — балет. Хочешь понять — понимай. Когда я начал учиться в консерватории, тогда и сам начал лучше понимать, одна мысль пришла. Бывают ведь такие идеи, которые остаются идеями. У меня была идея передачи сделать: как бы гопник в лосинах… объясняет другим гопникам смысл балета. В то время ещё ютубов никаких нет, я думал сделать какую-нибудь рубрику внутри программы «Яшьләр тукталышы» (Молодёжная остановка) на ТНВ. Потому что гопников в балете… было очень много… в один период. Сейчас вроде стало меняться, это волнообразно… Вот в Советское время тоже гопников много было. Дети из детдомов. Ревдар Садыйков, например, ребёнок из детдома, он очень крутым танцором был в нашем театре. Ну, была такая одна волна. И когда мы учились тоже как раз дети 80-90-х годов ведь. Потом вот перед глазами начало меняться, ну, заметно ведь — по причёске, по разговору, по интересам. Другое поколение начало приходить.
В Петербурге вот есть люди, объясняющие балет. Богдан Королёк очень хороший парень. Он сейчас суперкрутой балетовед. В своё время, перед тем, как я ушёл из консерватории, он был моим артистом. Ну, он танцор сам. На мой номер попал. Этот номер Ильдар, я и вот бедняга Богдан готовили. Замучали мы его. Но многие вещи поняли — и для Богдана это был важный момент.
Ильдар Мусин, он в Узбекистане родился: его родители переехали туда. Когда он учился в школе, они вернулись обратно. В Альметьевск. Там он ходил в музыкальную школу. Потом приехал в Казань, поступил учиться на оперного певца. И параллельно учился в театральном училище.
Мы познакомились в Петербурге, когда я поступал на режиссуру балета, а он на режиссёра оперы. Жили в одной комнате в общежитии. И вуз он первым поменял — поступил в Театральную академию. Я ещё один год учился в консерватории. Он рассказывал и объяснял мне всё, что узнал в академии. Потом и я поменял вуз, но комнату не меняли. Там было общее общежитие.
Сейчас он получает духовное образование. Во время каникул возвращается в Петербург, даёт мастер-классы.
У нас есть общий знакомый — Айдар, и Богдан говорит Айдару: «Вот если бы все так работали, то классический балет ещё бы не умер». Мы очень скрупулёзно работали, через психологию, обучая думать на сцене как бы… С Ильдаром сделали такой эксперимент. И вот уже приближается день экзаменов, а Богдан ещё не смог дорасти до этого номера, да. Мне мастер говорит… Мастер — хореограф, который приехал в Казань ставить «Снежную королеву», Тролля, когда я учился в училище. Полубенцев. Он уважает меня как исполнителя, оказал влияние на мой рост. Ну, хорошо меня знает. Он говорит, давай, Нурбек, выходи сам на этот номер. Я говорю, нет, не выйду, я ведь сюда не учиться на танцора пришёл. Сейчас выйду и, ну, так экспрессивно, это понравится зрителям, некоторым… Танцуя с одиннадцати лет, конечно же, знаешь такие приёмы. И они уже запрещённые как бы… другого хочется. Я говорю, нет, не выйду, лучше Богдан как есть выступит, чем я выйду и буду обманывать зрителя. Таким образом, Богдан вышел. Это была зимняя сессия, ну, последняя сессия, которую я сдавал…
Сейчас Богдан популяризатор классического балета. Умеет красиво и интересно рассказывать. На ютубе есть его лекции, в журналах публикуются его статьи.
Сейчас Богдан популяризатор классического балета. Умеет красиво и интересно рассказывать. На ютубе есть его лекции, в журналах публикуются его статьи.
— После этого ты поступил в Театральную академию?
— Да. Был очень большой конкурс. И нам говорят, мы не знаем, как сделать из вас актёров. Ну, меня это, конечно, шокировало: как это так, мы так старались поступить, а сейчас нам такое говорят. Только потом начинаешь понимать: а, они, оказывается, просто очень искренние. Очень искренние люди. И старательные, что ли… тщательно работающие. Искренние, честные. Такого учителя, наверно, нельзя обойти.
— Да. Был очень большой конкурс. И нам говорят, мы не знаем, как сделать из вас актёров. Ну, меня это, конечно, шокировало: как это так, мы так старались поступить, а сейчас нам такое говорят. Только потом начинаешь понимать: а, они, оказывается, просто очень искренние. Очень искренние люди. И старательные, что ли… тщательно работающие. Искренние, честные. Такого учителя, наверно, нельзя обойти.
ТО ЕСТЬ, ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ НЕ СОГЛАСЕН С ЕГО НАПРАВЛЕНИЕМ, НО ЕГО ОТКРЫТОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ. ЧЕСТНОСТЬ — ВСЁ, ОН ОСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ БЕЗОРУЖНЫМ И ТЫ ВОСПРИНИМАЕШЬ ЕГО КАК НАСТАВНИКА.
Наставничество — тоже очень важная тема в моей жизни. В детстве, когда иду в новую школу или приходит новый учитель, я молился, чтобы он был мягкосердечным. То есть для меня это было как-то суперважно. И мои желания, слава Богу, всегда претворялись в жизнь. Всегда как-то в моей жизни были мягкие учителя.
Вот мы с Байбулатом (Байбулат Батуллин — кинорежиссёр, младший брат Нурбека) оба ходили на гимнастику. Я долго ходил, а Байбулат не смог, потому что у него был жесткий тренер. А у меня был мягкий тренер. Поэтому я чуть больше позанимался. Возможно… результаты не были такими значительными, как у жесткого тренера. Но ведь Байбулат совсем не занимался. Есть у нас видеозапись — как он отказывается ходить на гимнастику, ему там то ли 6 лет, то ли 7. Мы ещё на Ямашева тогда жили. У папы была такая большая камера. Поставили камеру со штативом. Они вдвоём сидят на диване разговаривают, я оператор. Где-то есть ещё эта запись: «Да, начинаем беседу. Почему ты, сынок, не хочешь ходить на гимнастику?» Байбулат там свои аргументы приводит, папа там другие мысли говорит… Подытоживают: больше не ходить на гимнастику. У папы вот были такие интересные штуки.
Вот мы с Байбулатом (Байбулат Батуллин — кинорежиссёр, младший брат Нурбека) оба ходили на гимнастику. Я долго ходил, а Байбулат не смог, потому что у него был жесткий тренер. А у меня был мягкий тренер. Поэтому я чуть больше позанимался. Возможно… результаты не были такими значительными, как у жесткого тренера. Но ведь Байбулат совсем не занимался. Есть у нас видеозапись — как он отказывается ходить на гимнастику, ему там то ли 6 лет, то ли 7. Мы ещё на Ямашева тогда жили. У папы была такая большая камера. Поставили камеру со штативом. Они вдвоём сидят на диване разговаривают, я оператор. Где-то есть ещё эта запись: «Да, начинаем беседу. Почему ты, сынок, не хочешь ходить на гимнастику?» Байбулат там свои аргументы приводит, папа там другие мысли говорит… Подытоживают: больше не ходить на гимнастику. У папы вот были такие интересные штуки.
И когда вот в Академии учился, все три мастера были сторонниками студентоцентрированной педагогики, обладали знаниями по психологии, поэтому нас суперкомфортно обучали.
Нам говорили: вот четыре года, которые вы обучаетесь — это время расширения ваших границ, и сколько сможете расширить, то и будет вашим инструментом.
— В тот период ты чувствовал, что есть какие-то национальные ограничения?
— Ну, я ведь в национальной среде жил, быть татарином, это как-то было для меня чем-то естественным. В один момент я задумался на эту… тему. Когда я учился в Петербурге, у меня был одногруппник, который учил наизусть гимны разных стран. И он, чтобы пополнить свою коллекцию и сделать мне комплимент, начал искать гимн Татарстана, но не нашёл. И выучил это… «Туган якка юл тотамын, туган як, туган як…» — поёт мне эту песню. И в местах, где встречается звук «р» выговаривает его как я, так вот… по-французски. Вот так спел, и я говорю: «Спасибо, спасибо, супер. А почему ты «р» так выговариваешь»? Говорит: «Ну, вот ты ведь так выговариваешь». Это ведь мой личный недочёт, в татарском языке ведь нет такой фонетики, говорю. Ну, поговорили и всё, осталось в памяти таким интересным случаем.
И после этого я задумался, вот для моих одногруппников… для большинства, единственным татарином, которого они знали — был я.
Нам говорили: вот четыре года, которые вы обучаетесь — это время расширения ваших границ, и сколько сможете расширить, то и будет вашим инструментом.
— В тот период ты чувствовал, что есть какие-то национальные ограничения?
— Ну, я ведь в национальной среде жил, быть татарином, это как-то было для меня чем-то естественным. В один момент я задумался на эту… тему. Когда я учился в Петербурге, у меня был одногруппник, который учил наизусть гимны разных стран. И он, чтобы пополнить свою коллекцию и сделать мне комплимент, начал искать гимн Татарстана, но не нашёл. И выучил это… «Туган якка юл тотамын, туган як, туган як…» — поёт мне эту песню. И в местах, где встречается звук «р» выговаривает его как я, так вот… по-французски. Вот так спел, и я говорю: «Спасибо, спасибо, супер. А почему ты «р» так выговариваешь»? Говорит: «Ну, вот ты ведь так выговариваешь». Это ведь мой личный недочёт, в татарском языке ведь нет такой фонетики, говорю. Ну, поговорили и всё, осталось в памяти таким интересным случаем.
И после этого я задумался, вот для моих одногруппников… для большинства, единственным татарином, которого они знали — был я.
ТО ЕСТЬ КАК Я ТАТАР ОПИШУ… ЕСЛИ СКАЖУ, ЧТО ВСЕ ТАТАРЫ ТАК ЗВУК «Р» ВЫГОВАРИВАЮТ, НА ГОЛОВЕ ӨЧПОЧМАК НОСЯТ, НУ, ЧТО УГОДНО… КАКОЙ ОБРАЗ ЗАХОЧУ СОЗДАТЬ, ТАКИМИ ТАТАРЫ И БУДУТ В ИХ ПОНИМАНИИ.
треугольник
И так какой-то такой образ у них остался, Нурбек — это татарин. Когда говоришь «татарин», Нурбек всплывает в мыслях. У большинства.
В тот момент я подумал о том, насколько национальные компоненты условны. Мне папа часто говорил: «Религия не показатель национальности». Такая теория. Потому что их деревня была соединена с крещёной деревней. В одном конце — церковь, в другом конце — мечеть. Поэтому папа с детства как-то… рос толерантным к религии. Мне тоже передал эту идею. И в образе мышления у меня это было, но это… страха или стеснения другой религии… ксенофобия ведь есть — страх… Помню момент, как победил это чувство страха. Это было в кряшенской церкви, в Тихвинской церкви. Когда зашёл туда, почувствовал, будто предаю ислам. И я начал сам с собой разговаривать. Я говорю, папа ведь всю жизнь так говорил, а сейчас почему-то я себя неудобно чувствую в церкви. И это… когда подумал, что все религии из одного корня, диссонанс пропал… так мне показалось. Ну, в любом случае, на поверхности этого нет. Может глубже осталось, то, что я и сам не могу понять.
В Академии, например, я стеснялся выходить обнажённым (нагим). С одной стороны, все ограничения — они это… иллюзорные, конечно. Ну как-то… так мы привыкли. А из того к чему ты привык, во всяком случае, нужно попробовать выйти.
Ну, я думал, быть нагим — это ведь естественно, с одной стороны. Некоторые племена до сих пор ходят нагими, например. И в этих племенах, в этом обществе нет сексуального насилия, скажем, нет пошлых взглядов… Жак Фреско рассказывал в одном своём интервью. Такой романтичный человек он, только вот недавно умер. Вот он в подростковом возрасте жил в племенах, и он говорит, они ходят нагие, и парни на девушек это… не смотрят вожделеющим взглядом. А в нашей культуре… Например, в кино… Оператор, как появляется женский персонаж… ну это… в фильмах, которые много людей смотрят… он её начиная с ног, бёдер, груди и до лица проанализирует. И даже если в детстве нет таких мыслей, то это впитывается в тебя — так вот смотреть. Поэтому ты привыкаешь так оценивающе смотреть, он говорит. И когда начинаешь об этом думать, эти рамки вроде как отпускают. В Петербурге я это ограничение победил, например. Но в Татарстане оно вернулось обратно.
Думаю, что вот через эту критику, эти правила обратно вернулось. Общество защищает себя через критику как бы. Критика вот так капает, капает, и всё равно потом просыпается какое-то сомнение. Я возвращался с мыслью не обращать внимание на критику. Ну, предполагал, конечно, что примерно так будет. Но начинаешь обращать внимание, возможно там какое-то… зернышко истины есть.
В тот момент я подумал о том, насколько национальные компоненты условны. Мне папа часто говорил: «Религия не показатель национальности». Такая теория. Потому что их деревня была соединена с крещёной деревней. В одном конце — церковь, в другом конце — мечеть. Поэтому папа с детства как-то… рос толерантным к религии. Мне тоже передал эту идею. И в образе мышления у меня это было, но это… страха или стеснения другой религии… ксенофобия ведь есть — страх… Помню момент, как победил это чувство страха. Это было в кряшенской церкви, в Тихвинской церкви. Когда зашёл туда, почувствовал, будто предаю ислам. И я начал сам с собой разговаривать. Я говорю, папа ведь всю жизнь так говорил, а сейчас почему-то я себя неудобно чувствую в церкви. И это… когда подумал, что все религии из одного корня, диссонанс пропал… так мне показалось. Ну, в любом случае, на поверхности этого нет. Может глубже осталось, то, что я и сам не могу понять.
В Академии, например, я стеснялся выходить обнажённым (нагим). С одной стороны, все ограничения — они это… иллюзорные, конечно. Ну как-то… так мы привыкли. А из того к чему ты привык, во всяком случае, нужно попробовать выйти.
Ну, я думал, быть нагим — это ведь естественно, с одной стороны. Некоторые племена до сих пор ходят нагими, например. И в этих племенах, в этом обществе нет сексуального насилия, скажем, нет пошлых взглядов… Жак Фреско рассказывал в одном своём интервью. Такой романтичный человек он, только вот недавно умер. Вот он в подростковом возрасте жил в племенах, и он говорит, они ходят нагие, и парни на девушек это… не смотрят вожделеющим взглядом. А в нашей культуре… Например, в кино… Оператор, как появляется женский персонаж… ну это… в фильмах, которые много людей смотрят… он её начиная с ног, бёдер, груди и до лица проанализирует. И даже если в детстве нет таких мыслей, то это впитывается в тебя — так вот смотреть. Поэтому ты привыкаешь так оценивающе смотреть, он говорит. И когда начинаешь об этом думать, эти рамки вроде как отпускают. В Петербурге я это ограничение победил, например. Но в Татарстане оно вернулось обратно.
Думаю, что вот через эту критику, эти правила обратно вернулось. Общество защищает себя через критику как бы. Критика вот так капает, капает, и всё равно потом просыпается какое-то сомнение. Я возвращался с мыслью не обращать внимание на критику. Ну, предполагал, конечно, что примерно так будет. Но начинаешь обращать внимание, возможно там какое-то… зернышко истины есть.
НАПРИМЕР, У КРИТИКУЮЩИХ НАС, НУ, НАШУ КОМАНДУ, СПЕКТАКЛИ, ЕСТЬ ОДИН КОЗЫРЬ… РОЖДАЮЩИЙ ВО МНЕ СОМНЕНИЕ. ТО, ЧТО МЫ ПЛОХО ЗНАЕМ ТАТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ.
С одной стороны, я ведь человек, выросший в татарской среде. Папа ведь каждый раз за чаем рассказывал какое-нибудь выражение, историю о какой-нибудь личности, я ведь рос, непосредственно впитывая эти песни на семейных трапезах. С другой стороны, вроде бы и в их словах есть доля правды, потому что, например, я знаю татарскую литературу меньше, чем русскую. Или по сравнению с мировой литературой. Не знать её уж совсем… было бы тупостью.
Вот это как-то… беспокоило. Вот читаешь Достоевского, например, или Толстого — они такой, это… образ крестьян создают, такой богоносец, да, божественный, но пьющий. В лени уж погряз, да, но богоносец. И ты начинаешь в это верить: он на самом деле чистосердечен… да, он может даже не успевать трезветь, но вот душа у него чистая, да. Ты его, это, как сказать… на архитипы как бы переводишь.
А у нас всё равно вроде как нет таких развалившихся деревень, даже если постараться объективно посмотреть. Всё равно другой менталитет. Был. И это сразу рождало какой-то когнитивный диссонанс. Ну, я примерно такой ответ на это давал — может, в нашей литературе нет такой искренности. То есть русская литература признаёт свои недостатки. И от признания этих недостатков, она становится сильнее, так сказать… Если мы говорим о литературе. Ну, это и на театр влияет, потому что русский театр — это ведь литературный театр.
С другой стороны, папа вот говорит… Он 38-го года, да. В нашем детстве в деревне был один пьяница, то есть человек, которого считали пьяницей. Коллективное сознание дало ему роль пьяницы. Но он как пьяница: в день получки, что ли, один раз в месяц выпивал в общем-то. Выпивал и шёл потом по улице, рассказывая обо всех правду… Ну, на следующий день, может, с похмелья был, и всё. Ну, либо папа тут немного это… идеализирует… деревню. Он говорит, вот всё-таки после войны начали пить. Массовый оборот приняло, говорит, после войны.
Поэтому нежелание показывать, например, пьяные сцены, национальные рамки в театре, скажем — это вот, возможно, эхо былого, сейчас уже теряющегося менталитета.
— Тоска по нашему ушедшему образу?
— Да, но не только в рамках… проблема театра. Для нашей мастерской, например, самым страшным было — показать. Нельзя показывать. Если начинаешь показывать, ты играешь. Если играешь, то это ложь. Ложь не нужна — ни на сцене, ни в жизни. Вот с такой философией я вернулся.
А тут как бы… Ну, есть, конечно, такое понятие как игровой театр. Если бы я сказал, что татарам присущ игровой театр, то это было бы ещё очень большим комплиментом. Меж двух стульев татарский театр. Он и игровой театр не практикует, и реалистичный театр тоже. Это, конечно, проблема не только татарского театра, это проблема системы. Прикрываясь именем Станиславского… привнесение в его систему противоречий, по правде говоря. Это и в русском театре так. То есть не проблема нации, проблема системы обучения.
Наш курс ведь был собран при русском ТЮЗе в Петербурге, поэтому я и этот театр изнутри знаю… так можно сказать.
Вот это как-то… беспокоило. Вот читаешь Достоевского, например, или Толстого — они такой, это… образ крестьян создают, такой богоносец, да, божественный, но пьющий. В лени уж погряз, да, но богоносец. И ты начинаешь в это верить: он на самом деле чистосердечен… да, он может даже не успевать трезветь, но вот душа у него чистая, да. Ты его, это, как сказать… на архитипы как бы переводишь.
А у нас всё равно вроде как нет таких развалившихся деревень, даже если постараться объективно посмотреть. Всё равно другой менталитет. Был. И это сразу рождало какой-то когнитивный диссонанс. Ну, я примерно такой ответ на это давал — может, в нашей литературе нет такой искренности. То есть русская литература признаёт свои недостатки. И от признания этих недостатков, она становится сильнее, так сказать… Если мы говорим о литературе. Ну, это и на театр влияет, потому что русский театр — это ведь литературный театр.
С другой стороны, папа вот говорит… Он 38-го года, да. В нашем детстве в деревне был один пьяница, то есть человек, которого считали пьяницей. Коллективное сознание дало ему роль пьяницы. Но он как пьяница: в день получки, что ли, один раз в месяц выпивал в общем-то. Выпивал и шёл потом по улице, рассказывая обо всех правду… Ну, на следующий день, может, с похмелья был, и всё. Ну, либо папа тут немного это… идеализирует… деревню. Он говорит, вот всё-таки после войны начали пить. Массовый оборот приняло, говорит, после войны.
Поэтому нежелание показывать, например, пьяные сцены, национальные рамки в театре, скажем — это вот, возможно, эхо былого, сейчас уже теряющегося менталитета.
— Тоска по нашему ушедшему образу?
— Да, но не только в рамках… проблема театра. Для нашей мастерской, например, самым страшным было — показать. Нельзя показывать. Если начинаешь показывать, ты играешь. Если играешь, то это ложь. Ложь не нужна — ни на сцене, ни в жизни. Вот с такой философией я вернулся.
А тут как бы… Ну, есть, конечно, такое понятие как игровой театр. Если бы я сказал, что татарам присущ игровой театр, то это было бы ещё очень большим комплиментом. Меж двух стульев татарский театр. Он и игровой театр не практикует, и реалистичный театр тоже. Это, конечно, проблема не только татарского театра, это проблема системы. Прикрываясь именем Станиславского… привнесение в его систему противоречий, по правде говоря. Это и в русском театре так. То есть не проблема нации, проблема системы обучения.
Наш курс ведь был собран при русском ТЮЗе в Петербурге, поэтому я и этот театр изнутри знаю… так можно сказать.
РАЗНИЦА НЕБОЛЬШАЯ. И ТУТ ДЕЛО НЕ В НАЦИИ, НЕ В ГОРОДЕ… А В СИСТЕМЕ. В СИСТЕМЕ РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА — НЕСМОТРЯ НА ГОРОД, НАЦИЮ, ЭТО СТРУКТУРА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
РАЗНИЦА НЕБОЛЬШАЯ. И ТУТ ДЕЛО НЕ В НАЦИИ, НЕ В ГОРОДЕ… А В СИСТЕМЕ. В СИСТЕМЕ РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА — НЕСМОТРЯ НА ГОРОД, НАЦИЮ, ЭТО СТРУКТУРА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Поэтому или погибну, желая изменить большой Петербургский ТЮЗ, или я вернусь сюда… Ну, не думал, что погибну, конечно, но желание попробовать изменить было. И с самого начала у меня в голове была такая крепкая установка — вернуться обратно. Ну, сначала я должен был вернуться татарским балетмейстером. И я себе это так представлял, так мечтал об этом. Писал в дневник проекты, связанные с музыкой Мубая и музыкой Альфии апа.
А уже покинув балет, заканчивая Театральную академию — ещё не получил диплом — мне Ренат Аюпов (главный режиссёр театра им.Кариева) позвонил. «Как доучишься, приедешь работать в наш театр?», — говорит. Космос мне сам работу предлагает, подумал я, в таком случае уж не отказываются. И согласился.
Я был к этому готов, и как-то я был силён в то время. Вот сравнивая с сегодняшним днём… какая-то духовная сила была во мне. Я понимал, куда я вернусь. Что в Казань, что в татарский ТЮЗ. Был готов к стрессам. Петербургский эффект длился один-два года. Артисты говорили, тебя из себя невозможно вывести, ты такой спокойный. Был спокоен, потому что понимал: почему он сейчас плачет, почему нервничает — ему нужно помочь. А потом как-то глаза начал на это закрывать, как будто… не осталось во мне переживаний о горе другого человека. Возможно, это страшно звучит, ну, раз начал рассказывать, то так уж это звучит.
Артисты тоже сначала постоянно спрашивали, каждую неделю: ты ещё не уходишь? Не уходишь? Как-то, поначалу боялись, что уйду. Около полугода. На второй год уже успокоились, начали не ходить на занятия. Когда поняли, что не ухожу.
Я многие вещи там понял, что работает, что не работает. Понял, что нельзя изменить репертуарный театр. Ну… Понял артистов. Пообщался с ними. Они, с одной стороны, очень жаждут какую-нибудь новую работу, с другой стороны, и из репертуарного театра боятся уйти, потому что у нас ещё очень сложно жить актёрам на фрилансе.
Вдобавок к этому у нашего зрителя не очень высокие требования. Бабушки вот сидят комментируют. «О, у него нервы кончились, магния ему надо попить», — говорит одна бабушка. То есть она не думает, что артист специально так играет. У меня это вызвало недоумение. Смотрю на зрителя, после на сцену, потом вспоминаю годы обучения.
Ну, во-первых, зритель не видел другого искусства. И даже если увидит, то не сможет дать оценку. Вот у Курентзиса есть интересный пример — про высокохудожественную музыку. Говорит, поздно вышел из театра в Перми (после банкета вроде), и в руках было очень дорогое французское вино. Ну, для тех, кто реально в вине разбирается, реально дорогое. И один бомж, говорит, сидит на поребрике. Решил его угостить. Бомж попробовал и говорит: «кагор лучше». Такой пример приводит. Ну, раз привык всю жизнь кагор пить, то и хорошее вино плохим кажется, говорит.
И тут рождается другой вопрос: для какого зрителя я хочу работать? Планку спустить до уровня нынешнего зрителя, или я хочу расти выше? Спор на этом месте и возникал при подготовке спектакля.
А уже покинув балет, заканчивая Театральную академию — ещё не получил диплом — мне Ренат Аюпов (главный режиссёр театра им.Кариева) позвонил. «Как доучишься, приедешь работать в наш театр?», — говорит. Космос мне сам работу предлагает, подумал я, в таком случае уж не отказываются. И согласился.
Я был к этому готов, и как-то я был силён в то время. Вот сравнивая с сегодняшним днём… какая-то духовная сила была во мне. Я понимал, куда я вернусь. Что в Казань, что в татарский ТЮЗ. Был готов к стрессам. Петербургский эффект длился один-два года. Артисты говорили, тебя из себя невозможно вывести, ты такой спокойный. Был спокоен, потому что понимал: почему он сейчас плачет, почему нервничает — ему нужно помочь. А потом как-то глаза начал на это закрывать, как будто… не осталось во мне переживаний о горе другого человека. Возможно, это страшно звучит, ну, раз начал рассказывать, то так уж это звучит.
Артисты тоже сначала постоянно спрашивали, каждую неделю: ты ещё не уходишь? Не уходишь? Как-то, поначалу боялись, что уйду. Около полугода. На второй год уже успокоились, начали не ходить на занятия. Когда поняли, что не ухожу.
Я многие вещи там понял, что работает, что не работает. Понял, что нельзя изменить репертуарный театр. Ну… Понял артистов. Пообщался с ними. Они, с одной стороны, очень жаждут какую-нибудь новую работу, с другой стороны, и из репертуарного театра боятся уйти, потому что у нас ещё очень сложно жить актёрам на фрилансе.
Вдобавок к этому у нашего зрителя не очень высокие требования. Бабушки вот сидят комментируют. «О, у него нервы кончились, магния ему надо попить», — говорит одна бабушка. То есть она не думает, что артист специально так играет. У меня это вызвало недоумение. Смотрю на зрителя, после на сцену, потом вспоминаю годы обучения.
Ну, во-первых, зритель не видел другого искусства. И даже если увидит, то не сможет дать оценку. Вот у Курентзиса есть интересный пример — про высокохудожественную музыку. Говорит, поздно вышел из театра в Перми (после банкета вроде), и в руках было очень дорогое французское вино. Ну, для тех, кто реально в вине разбирается, реально дорогое. И один бомж, говорит, сидит на поребрике. Решил его угостить. Бомж попробовал и говорит: «кагор лучше». Такой пример приводит. Ну, раз привык всю жизнь кагор пить, то и хорошее вино плохим кажется, говорит.
И тут рождается другой вопрос: для какого зрителя я хочу работать? Планку спустить до уровня нынешнего зрителя, или я хочу расти выше? Спор на этом месте и возникал при подготовке спектакля.
Я ЧТО-НИБУДЬ ПРЕДЛАГАЮ, АРТИСТЫ ГОВОРЯТ: НУ, ЭТОГО НАШ ЗРИТЕЛЬ НЕ ПОНИМАЕТ. А ВЕДЬ ЗРИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ!
Кроме бабушек (я уж, гневаясь, так говорил, имея в виду зрителя в их представлении) ведь есть профессоры, литературоведы, писатели, другие артисты, зрители, понимающие искусство. Только почему-то их не представляют как зрителей.
Потом вот мы попробовали поставить «Таң вакыты» — отдельно от театра, в «ДК Московский». Несмотря на то, что с критикой смотрели на мою деятельность, для артистов это стало новым опытом. Они вышли без грима, они увидели себя красивыми. От них не требовали притворства, изображать из себя кого-то. Это ведь психологическое наслаждение. Вот я хотел поделиться этим состоянием.
Потом вот мы попробовали поставить «Таң вакыты» — отдельно от театра, в «ДК Московский». Несмотря на то, что с критикой смотрели на мою деятельность, для артистов это стало новым опытом. Они вышли без грима, они увидели себя красивыми. От них не требовали притворства, изображать из себя кого-то. Это ведь психологическое наслаждение. Вот я хотел поделиться этим состоянием.
НЕКОТОРЫЕ АРТИСТЫ ВЕДЬ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЕСТЬ ДРУГОЕ ИСКУССТВО. ТЕБЕ ТАМ НЕ НУЖНО ПРИТВОРЯТЬСЯ, ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ТЕБЕ НЕ ПРИСУЩЕ, НАОБОРОТ, ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКРЫТЬ СЕБЯ.
В жизни, может быть, невозможно, не играя. А сцена — это такая зона свободы, дарованная Аллахом. Там мы можем пробовать отрицать правила и каноны. Чтобы в жизни их не отрицать, не проверять. Потому что, если начнёшь проверять в жизни, может начаться хаос, или… навредить здоровью, жизни… Есть такая теория: вот… если государство начинает притеснять театр, забирать свободу, то театр распространяется на само государство. И государство начинает быть очень театральным. Парады, сжигание книг — это ведь театральные акции, костюмы, марши, ритм — театральные приёмы внедряются в жизнь. Поэтому нельзя забирать свободу театра, он лечит общество, это психотерапия.
С сентября я ушёл на фриланс, но до сих пор работаю под инициативой других людей. Недофрилансер такой. Вечно неспелый. Я избегаю этого момента как бы. Того, чтобы поспеть. Это мне и Ильдар говорит. Предложил поехать в Испанию, к одному учителю. Он говорит: «Что, знаний, что ли, тебе не хватает, самому уже нужно работать». Ну, действительно, сам сижу и рассказываю, что ещё и то, что есть, не можем до конца использовать. Это, наверное, своеобразный побег от ответственности.
У меня сейчас такая мысль есть. Сильно сузить направления деятельности, оставить только танец. И создать свою систему, систему воспитания в этом направлении… Если она организуется, то я могу уже быть спокоен. Возможно, сначала будет один ученик, потом два… И потом уже, возможно, какая-то маленькая труппа возникнет. Вот так.
С сентября я ушёл на фриланс, но до сих пор работаю под инициативой других людей. Недофрилансер такой. Вечно неспелый. Я избегаю этого момента как бы. Того, чтобы поспеть. Это мне и Ильдар говорит. Предложил поехать в Испанию, к одному учителю. Он говорит: «Что, знаний, что ли, тебе не хватает, самому уже нужно работать». Ну, действительно, сам сижу и рассказываю, что ещё и то, что есть, не можем до конца использовать. Это, наверное, своеобразный побег от ответственности.
У меня сейчас такая мысль есть. Сильно сузить направления деятельности, оставить только танец. И создать свою систему, систему воспитания в этом направлении… Если она организуется, то я могу уже быть спокоен. Возможно, сначала будет один ученик, потом два… И потом уже, возможно, какая-то маленькая труппа возникнет. Вот так.
ИНТЕРВЬЮ — ЙОЛДЫЗ МИННУЛЛИНА
ФОТО — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
РЕЖИССЁР — ИЛЬШАТ РАХИМБАЙ
ОПЕРАТОР — АЛЬФРЕД МАРВАНОВ
МУЗЫКА НА ВИДЕО — РЕНАТ АХМЕТШИН, САБИТ КАДЫЙРОВ, ЗУЛЕЙХА КАМАЛОВА, ГУЗЕЛЬ САТТАРОВА
ФОТО — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
РЕЖИССЁР — ИЛЬШАТ РАХИМБАЙ
ОПЕРАТОР — АЛЬФРЕД МАРВАНОВ
МУЗЫКА НА ВИДЕО — РЕНАТ АХМЕТШИН, САБИТ КАДЫЙРОВ, ЗУЛЕЙХА КАМАЛОВА, ГУЗЕЛЬ САТТАРОВА