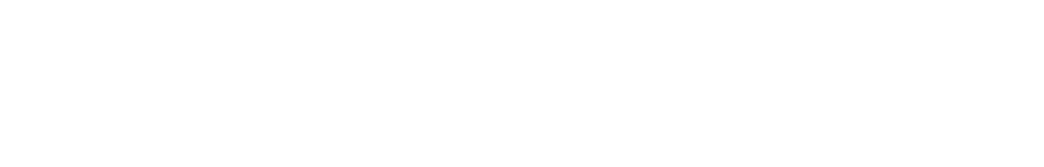ЭТО БЫЛО САМОЕ СЛОЖНОЕ — ПОНЯТЬ, ЧТО Я НЕ НУЖНА КАЗАНИ И УНИВЕРСИТЕТУ
ЭНЖЕ ДУСАЕВА
ЭНЖЕ ДУСАЕВА
ЭТО БЫЛО САМОЕ СЛОЖНОЕ — ПОНЯТЬ, ЧТО Я НЕ НУЖНА КАЗАНИ И УНИВЕРСИТЕТУ
Энже Дусаева родилась и выросла в Казани, поступила на исторический факультет КФУ, потом переехала в Москву — училась в аспирантуре РГГУ и Институте европейских культур. Выиграла татарстанский грант «Алгарыш» и европейский грант Эразмус — два года исследовала культурную память Италии. Вернулась в Казань работать в университете, организовала курсы итальянского языка, курс лекций по истории культуры Италии, экскурсии на итальянском языке по Казани.
Энже Дусаева родилась и выросла в Казани, поступила на исторический факультет КФУ, потом переехала в Москву — училась в аспирантуре РГГУ и Институте европейских культур. Выиграла татарстанский грант «Алгарыш» и европейский грант Эразмус — два года исследовала культурную память Италии. Вернулась в Казань работать в университете, организовала курсы итальянского языка, курс лекций по истории культуры Италии, экскурсии на итальянском языке по Казани.
У меня оба родителя юристы. Мама — адвокат, папа — судья. Я знала всю изнанку этой профессии, мы с сестрой с детства много времени проводили в судах: бабушек не было, оставить нас не с кем, поэтому мама брала нас с собой. Конвоиры были нашими друзьями. Мне вообще казалось, что мы идём на праздник — нас там в канцелярии конфетами кормили, Чёрное озеро рядом, пиццерия. И в детстве мы играли в расследование, очную ставку, прокуратуру.
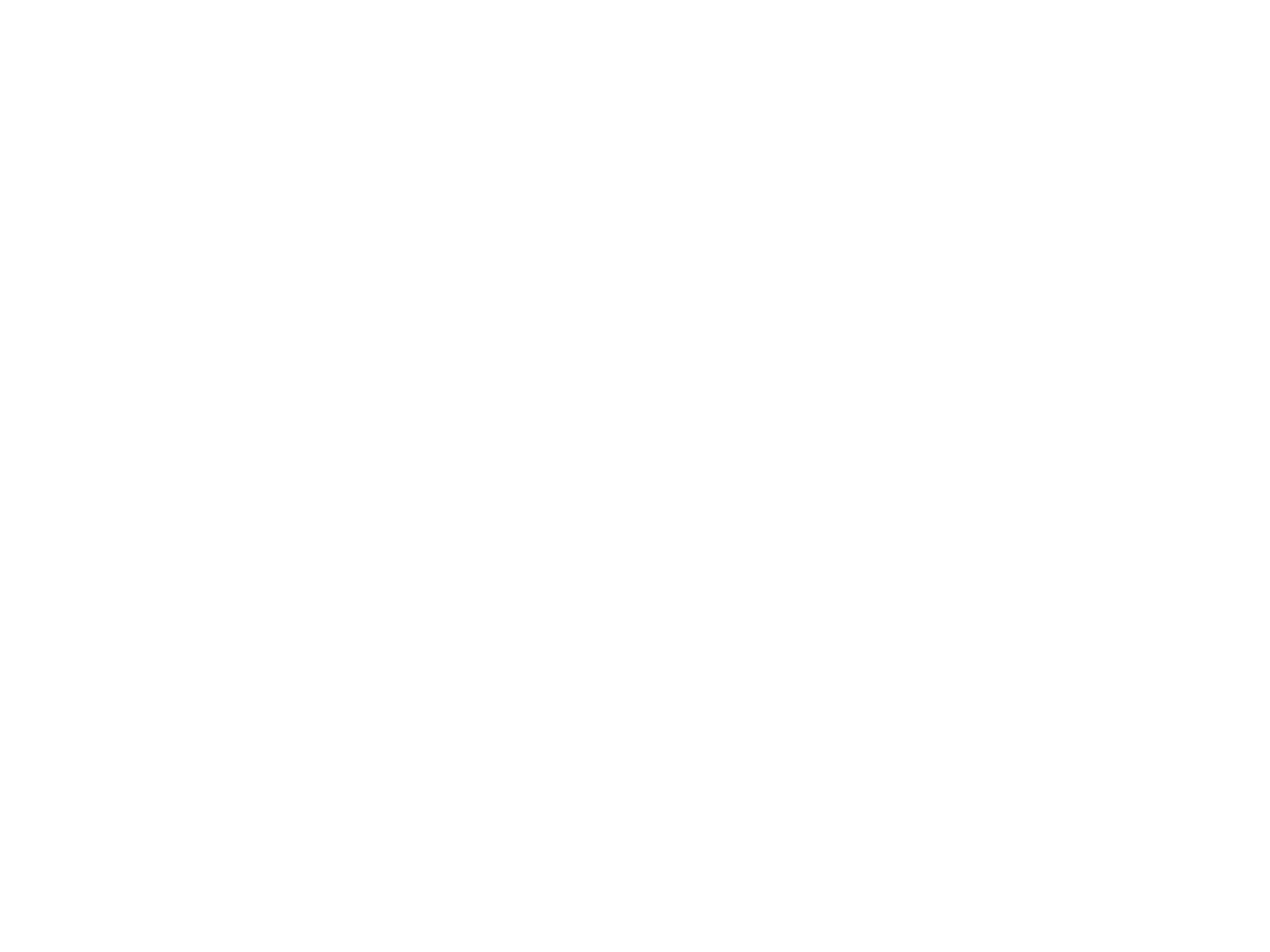
Мне говорили, хотя я сама этого не помню, что когда у меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я всегда отвечала — учёным.
Я родилась в Казани и большую часть своего раннего детства провела на Декабристов. Вчера была на спектакле «Децентрализация», который прямо всколыхнул мои воспоминания: дом напротив — дом-сталинка, где раньше был ресторан «Маяк». Там жила моя мама, тётя, дядя, бабушка, дедушка, и я вспомнила вчера визуально огромное вот это окно из дедушкиной спальни, вот этот дом с лепниной. Сталинский ампир напоминает мне такого быка. Когда вышла к микрофону, я даже закрыла глаза и прямо услышала стук колёс девятого трамвая.
В нашем дворе был фонтан, а рядом, в скверике — бассейн, в котором не было воды, но были такие «самоцветы» — я помню, мы отколупывали камешки, и нам казалось (мы читали Бажова), что это вот самоцветы и мы хозяйки Медной горы.
В нашем дворе был фонтан, а рядом, в скверике — бассейн, в котором не было воды, но были такие «самоцветы» — я помню, мы отколупывали камешки, и нам казалось (мы читали Бажова), что это вот самоцветы и мы хозяйки Медной горы.
Где-то глубоко воспоминание о татарском языке, потому что до трёх лет я разговаривала только на татарском, а потом меня отдали в садик. Мама говорит, что я за неделю выучила русский, а история с татарским закончилась, потому что это было полное такое изменение среды.
У меня было ощущение, что я выросла в музее и консерватории, потому что мой сценарий выходного дня в детстве — это консерватория, которая была на Площади Свободы, «Лакомка», в которую мы ходили примерно раз в месяц, и изомузей — мы ходили туда в студию с трёх лет.
Помню, как я впервые увидела икону, как нам объясняли, что это такое. Мы однажды с сестрой взмолились и попросили маму больше не водить нас в Театр оперы и балета, потому что мы семь дней подряд на Шаляпинский фестиваль ходили и смотрели всё — это были первые классы школы.
У меня было ощущение, что я выросла в музее и консерватории, потому что мой сценарий выходного дня в детстве — это консерватория, которая была на Площади Свободы, «Лакомка», в которую мы ходили примерно раз в месяц, и изомузей — мы ходили туда в студию с трёх лет.
Помню, как я впервые увидела икону, как нам объясняли, что это такое. Мы однажды с сестрой взмолились и попросили маму больше не водить нас в Театр оперы и балета, потому что мы семь дней подряд на Шаляпинский фестиваль ходили и смотрели всё — это были первые классы школы.
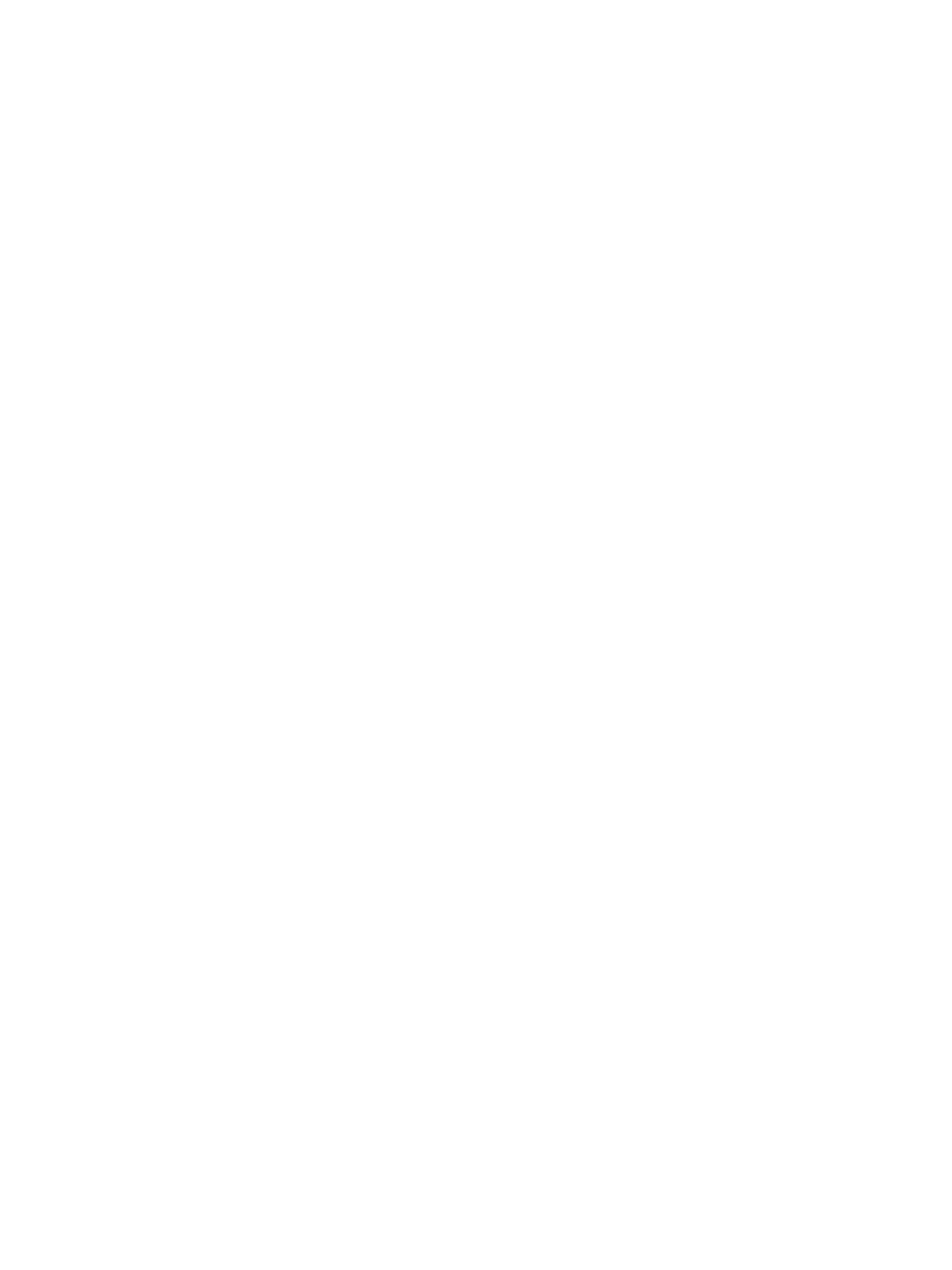
Я училась в 122 школе, и в этой школе училась моя мама, мой дядя, моя тётя — то есть в этом была такая преемственность. Мы с Проспекта Победы ездили на Разъезд Восстания — это примерно час пятнадцать по времени. Это каждый день транспорт с пересадками. Мы очень хорошо знали город, мельчайшие вот… я помню цыганок, которые стояли около ЦУМа и чем-то торговали, я помню улицу Свердлова и всю Суконную слободу. Моя сестрёнка — она чуть поживее меня — говорила: выбирай себе мужчину поплотнее, на него облокотись и досыпай ещё полчаса.
У меня был переломный момент, когда я пошла в театральную студию в школе, пришёл педагог — Лёня Талипов — и в этот момент всё изменилось: у меня была такая длинная коса, я была отличница… меня постригли под 0,5. Такая перезагрузка. Начались улыбки, я стала проявлять свою скрытую язвительность и ироничность. Будто бы открылась крышка и джин стал выходить из кувшина. И там же я поняла, что я больше режиссёр, а не актёр, я ставила и свои спектакли с младшими классами — «Карлсон», «Пеппи Длинный чулок».
Школа для меня — это ресурс, она была очень необычная какая-то. У нас там были и театральные, и танцевальные марафоны. Мы Франца Кафку читали в десятом классе.
С подругой школьной мы до сих пор дружим. До сих пор дружим с одноклассниками — мы все в науке: один физик, другой химик, в общем, каждый реализовался как учёный в своей области. Это был какой-то мой круг, что ли, хотя мы были и разные, всё же родители у нас были примерно из одного круга — учителя, инженеры, врачи. Я тогда этого не понимала, но когда я пришла в университет, я это почувствовала.
У меня был переломный момент, когда я пошла в театральную студию в школе, пришёл педагог — Лёня Талипов — и в этот момент всё изменилось: у меня была такая длинная коса, я была отличница… меня постригли под 0,5. Такая перезагрузка. Начались улыбки, я стала проявлять свою скрытую язвительность и ироничность. Будто бы открылась крышка и джин стал выходить из кувшина. И там же я поняла, что я больше режиссёр, а не актёр, я ставила и свои спектакли с младшими классами — «Карлсон», «Пеппи Длинный чулок».
Школа для меня — это ресурс, она была очень необычная какая-то. У нас там были и театральные, и танцевальные марафоны. Мы Франца Кафку читали в десятом классе.
С подругой школьной мы до сих пор дружим. До сих пор дружим с одноклассниками — мы все в науке: один физик, другой химик, в общем, каждый реализовался как учёный в своей области. Это был какой-то мой круг, что ли, хотя мы были и разные, всё же родители у нас были примерно из одного круга — учителя, инженеры, врачи. Я тогда этого не понимала, но когда я пришла в университет, я это почувствовала.
Дедуля купил арбуз и дыню в мой первый школьный день — для советского времени, 1986-й год, это было что-то с чем-то.
И мы пошли в фотоателье на Декабристов. И у нас вот с тех пор два семейных праздника — Первое сентября и Новый год. Теперь это уже отмечают наши дети.
Когда открылась 19-ая школа рядом с нашим домом и мама предложила попробовать перейти в эту школу, у меня было прямо жесткое отторжение, я не хотела уходить от своих друзей, мне не нравился тот район, в котором я жила. К тому же Горки были довольно опасным, криминальным районом. И моя подруга, которая как раз на Горках окончила школу, говорит, что там половина её одноклассников либо сидит, либо их уже нет в живых.
Я хотела связать профессию с языками, но не хотелось учиться с одними девочками, поэтому я отмела филфак и иняз сразу. Ну и у нас сложно было поступить без блата, это был 96-ой год. Я тогда не рассматривала вариант куда-то уехать, хотя некоторые мои одноклассники поступали в Москву без блата и спрашивали, почему я не пробую тоже. Но мне не хотелось уезжать из Казани, уезжать от семьи.
Когда открылась 19-ая школа рядом с нашим домом и мама предложила попробовать перейти в эту школу, у меня было прямо жесткое отторжение, я не хотела уходить от своих друзей, мне не нравился тот район, в котором я жила. К тому же Горки были довольно опасным, криминальным районом. И моя подруга, которая как раз на Горках окончила школу, говорит, что там половина её одноклассников либо сидит, либо их уже нет в живых.
Я хотела связать профессию с языками, но не хотелось учиться с одними девочками, поэтому я отмела филфак и иняз сразу. Ну и у нас сложно было поступить без блата, это был 96-ой год. Я тогда не рассматривала вариант куда-то уехать, хотя некоторые мои одноклассники поступали в Москву без блата и спрашивали, почему я не пробую тоже. Но мне не хотелось уезжать из Казани, уезжать от семьи.
Я выбрала истфак. И на первом курсе у нас сформировалась такая компашка: шесть мальчиков и я.
В университете я встретила своего мужа, мы до сих пор вместе.
На первом курсе я училась в татарской группе.
На первом курсе я училась в татарской группе.
И чем больше меня стыдили и гнобили, что я татарка и не знаю татарского языка, тем больше тогда у меня это вызывало отторжения.
И на втором курсе я перевелась в русскоязычную группу.
В моём формировании в университете важную роль сыграла Александра Геннадьевна Суприянович — удивительная женщина: во-первых, фантастической красоты. И я такая: о, женщина-учёный! Она занималась гендерными исследованиями, женской мистикой и вообще средними веками. Я когда ее увидела, поняла: я к ней хочу!
Меня на третьем курсе привлекла фигура, сопоставимая по уровню с Фомой Аквинским, но про него вообще никто не знал. А он столько написал, что 12 телег ехало за ним, везя все его труды. Святой Бонавентура.
И вот с этого момента началась маргинальная история в моей жизни, то есть меня стали привлекать какие-то неочевидные вещи. Я читала его текст «Путеводитель души к Богу». Так появился в моей жизни главный персонаж — Святой Франциск Ассизский. И это любовь на всю жизнь. Бонавентура был первым биографом этого святого.
И тут как раз после третьего курса был момент соблазна. Я поехала со своей сестрой в Москву — она поступала в школу-студию МХАТ — поехала поддерживать. И там преподавательница ГИТИСа, с которой мы разговорились, сказала: «Давай я тебя возьму на режиссуру без экзаменов. Ты режиссёр». Я так на неё посмотрела и говорю: «Я же историк-исследователь».
В моём формировании в университете важную роль сыграла Александра Геннадьевна Суприянович — удивительная женщина: во-первых, фантастической красоты. И я такая: о, женщина-учёный! Она занималась гендерными исследованиями, женской мистикой и вообще средними веками. Я когда ее увидела, поняла: я к ней хочу!
Меня на третьем курсе привлекла фигура, сопоставимая по уровню с Фомой Аквинским, но про него вообще никто не знал. А он столько написал, что 12 телег ехало за ним, везя все его труды. Святой Бонавентура.
И вот с этого момента началась маргинальная история в моей жизни, то есть меня стали привлекать какие-то неочевидные вещи. Я читала его текст «Путеводитель души к Богу». Так появился в моей жизни главный персонаж — Святой Франциск Ассизский. И это любовь на всю жизнь. Бонавентура был первым биографом этого святого.
И тут как раз после третьего курса был момент соблазна. Я поехала со своей сестрой в Москву — она поступала в школу-студию МХАТ — поехала поддерживать. И там преподавательница ГИТИСа, с которой мы разговорились, сказала: «Давай я тебя возьму на режиссуру без экзаменов. Ты режиссёр». Я так на неё посмотрела и говорю: «Я же историк-исследователь».
ДЛЯ МЕНЯ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — ЭТО КАК РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА, ПРОИСШЕСТВИЯ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ Я ПРОДОЛЖАЮ ИСТОРИЮ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.
Наша кафедра выиграла грант Сороса, и на 4 курсе нас (почти всех, кто специализировался на Средних веках и Античности) вывезли в Академию Наук — там мы познакомились с людьми, которые сыграли очень важную роль в моей жизни.
Вот моя будущая научная руководительница — Галина Ивановна Зверева — человек, который фактически пробил место культурологии в России, в российском научном знании. Она создала все эти стандарты по культурологии. Фантастическая женщина, мне кажется, таких больше нет.
Я прямо поняла, что я хочу работать в Академии Наук в Москве, мне так отозвалось.
Вот моя будущая научная руководительница — Галина Ивановна Зверева — человек, который фактически пробил место культурологии в России, в российском научном знании. Она создала все эти стандарты по культурологии. Фантастическая женщина, мне кажется, таких больше нет.
Я прямо поняла, что я хочу работать в Академии Наук в Москве, мне так отозвалось.
В аспирантуру поступить в 2001 году в Казани, будучи женщиной, было невозможно. Я поступила в аспирантуру в РГГУ, а параллельно — в ИНСТИТУТ европейских культур.
Первый семестр я жутко тосковала по своему будущему мужу, мы с ним приехали вдвоём в Москву: он жил в своей общаге на рыжей ветке, в Ясенево, а я жила на Академика Янгеля, соединяет их только Битцевский парк… в общем, всё плохо. Раз в месяц я ездила домой: я поняла, что я абсолютно не готова жить в общежитии, не могла себе найти места.
Ещё и светает в Москве на час позже, в Казани уже в это время светло, а я жаворонок, и мне казалось, всё не так, как у меня дома.
Но при этом я могла 200 страниц Фуко прочитать за вечер, такой потому что был массив. Мы как-то с мамой пошли на выставку после первой сессии, и она мне сказала: «Ты говоришь, как критик, не как живой человек». То есть я настолько напиталась этим языком, не смогла переварить и присвоить, просто выдавала фразы из того контекста, в котором жила.
Если на истфаке заканчивалось 1950-ми годами, Сартром и Камю, то в Москве с этого всё только начиналось.
Когда мне нужно было выбрать научную работу, а Франциска бросать не хотелось, произошёл забавный случай. Я помню, как я ехала в маршрутке, передо мной сидел парень и пил пиво. Я присмотрелась к этикетке и увидела францисканца, надпись — «Пиво Францисканер». У меня загорелись глаза, я сразу к нему: «Ой, извините, пожалуйста, а вам бутылочка нужна?». На меня вся маршрутка посмотрела: ну то есть вроде нормальный человек, а бутылку просит. Он мне протягивает пиво, я говорю: «Не-не, пиво не пью, мне вот именно бутылка нужна». И я потом шла с этой бутылкой и ощущала себя Данко.
Ещё и светает в Москве на час позже, в Казани уже в это время светло, а я жаворонок, и мне казалось, всё не так, как у меня дома.
Но при этом я могла 200 страниц Фуко прочитать за вечер, такой потому что был массив. Мы как-то с мамой пошли на выставку после первой сессии, и она мне сказала: «Ты говоришь, как критик, не как живой человек». То есть я настолько напиталась этим языком, не смогла переварить и присвоить, просто выдавала фразы из того контекста, в котором жила.
Если на истфаке заканчивалось 1950-ми годами, Сартром и Камю, то в Москве с этого всё только начиналось.
Когда мне нужно было выбрать научную работу, а Франциска бросать не хотелось, произошёл забавный случай. Я помню, как я ехала в маршрутке, передо мной сидел парень и пил пиво. Я присмотрелась к этикетке и увидела францисканца, надпись — «Пиво Францисканер». У меня загорелись глаза, я сразу к нему: «Ой, извините, пожалуйста, а вам бутылочка нужна?». На меня вся маршрутка посмотрела: ну то есть вроде нормальный человек, а бутылку просит. Он мне протягивает пиво, я говорю: «Не-не, пиво не пью, мне вот именно бутылка нужна». И я потом шла с этой бутылкой и ощущала себя Данко.
Франциск Ассизский в современной массовой культуре на примере российского интернета — такую тему я выбрала. И началось всё с бутылки пива! Вообще в моей жизни много историй с какими-то знаками.
Зато тогда в Москве я впервые стала понимать, что такое чувствовать город, для меня это было открывание Москвы. Меня подруга стала водить на Крутицкое подворье, стала показывать вот эти усадьбы, Архангельское, например. ДЛя меня так начался диалог с городом.
Тогда Москва для меня — другой мир, другие возможности. Меня устраивало всё с точки зрения общения, выставок, всех моих рабочих и нерабочих потребностей.
Работала я в Москве недолго: мама сломала позвоночник в 2005-ом году, нужна была помощь в Казани. Да и мужу не очень нравилась Москва. То есть это не моё желание было возвращаться в Казань.
В Москве два года держали место для меня и ждали.
Зато тогда в Москве я впервые стала понимать, что такое чувствовать город, для меня это было открывание Москвы. Меня подруга стала водить на Крутицкое подворье, стала показывать вот эти усадьбы, Архангельское, например. ДЛя меня так начался диалог с городом.
Тогда Москва для меня — другой мир, другие возможности. Меня устраивало всё с точки зрения общения, выставок, всех моих рабочих и нерабочих потребностей.
Работала я в Москве недолго: мама сломала позвоночник в 2005-ом году, нужна была помощь в Казани. Да и мужу не очень нравилась Москва. То есть это не моё желание было возвращаться в Казань.
В Москве два года держали место для меня и ждали.
Полгода я работала так: три дня в Москве, три дня в Казани. Я прямо из поезда выходила— и сразу в Академию Наук.
На четверть ставки я устроилась в Казанский университет. И параллельно в Казани стала работать в консалтинговой компании своего брата. Регистрировала фирмы, потому что надо было на что-то жить: зарплата в университете была 750 рублей.
Мечта поехать в Италию оформилась к моменту защиты диссертации, когда я поняла, что пишу о фресках, которые никогда не видела. Или о Сполетанской долине и не представляю даже, как это выглядит.
Я попала в Варшаву в 2008 году совершенно случайно на конференцию «Икона сегодня», и на обратном пути я ехала с очень красивым монахом молодым, который сказал: «А поехали с нами на фургончике объедем всю Италию». Тогда мне идея показалась невероятной, мы не обменялись контактами.
Потом мы с мамой как-то пошли в общественную баню, и там была женщина, которая говорила, что они продлевают приём заявок на грант «Алгарыш». Я подалась на этот грант и выиграла — поехала на 2 месяца в Италию в 2008 году, во Флоренции изучала итальянский язык в Институте Микеланджело, помню, как сидела под памятником Данте и делала упражнения по итальянскому языку.
Позже я подалась на грант Эразмус на постдокторские исследования, поехала в Болонью на два года — на факультет истории искусств, где мне попался удивительный просто профессор, такой Жан Рено итальянского разлива — Фабрицио Лаллини. Очень умный, тонко чувствующий человек. Он поверил в моё исследование, хотя тема была не совсем в тренде.
Однажды я была на лекции профессора Карло Гинзбурга, подошла к нему после лекции, ещё не очень хорошо разговаривая на итальянском, и сказала, что хотела бы с ним поговорить про исследование. И он приглашает, значит, меня к себе в дом, в средневековое палаццо, я с чак-чаком, рассказываю ему, что я из Казани, рассказываю о теме исследования. И он предлагает мне сузить тему и говорит, что сможет в этой узкой теме мне помочь. Но я тогда отказалась, потому что мне всё-таки хотелось масштабное, дерзкое и самостоятельное исследование.
Мечта поехать в Италию оформилась к моменту защиты диссертации, когда я поняла, что пишу о фресках, которые никогда не видела. Или о Сполетанской долине и не представляю даже, как это выглядит.
Я попала в Варшаву в 2008 году совершенно случайно на конференцию «Икона сегодня», и на обратном пути я ехала с очень красивым монахом молодым, который сказал: «А поехали с нами на фургончике объедем всю Италию». Тогда мне идея показалась невероятной, мы не обменялись контактами.
Потом мы с мамой как-то пошли в общественную баню, и там была женщина, которая говорила, что они продлевают приём заявок на грант «Алгарыш». Я подалась на этот грант и выиграла — поехала на 2 месяца в Италию в 2008 году, во Флоренции изучала итальянский язык в Институте Микеланджело, помню, как сидела под памятником Данте и делала упражнения по итальянскому языку.
Позже я подалась на грант Эразмус на постдокторские исследования, поехала в Болонью на два года — на факультет истории искусств, где мне попался удивительный просто профессор, такой Жан Рено итальянского разлива — Фабрицио Лаллини. Очень умный, тонко чувствующий человек. Он поверил в моё исследование, хотя тема была не совсем в тренде.
Однажды я была на лекции профессора Карло Гинзбурга, подошла к нему после лекции, ещё не очень хорошо разговаривая на итальянском, и сказала, что хотела бы с ним поговорить про исследование. И он приглашает, значит, меня к себе в дом, в средневековое палаццо, я с чак-чаком, рассказываю ему, что я из Казани, рассказываю о теме исследования. И он предлагает мне сузить тему и говорит, что сможет в этой узкой теме мне помочь. Но я тогда отказалась, потому что мне всё-таки хотелось масштабное, дерзкое и самостоятельное исследование.
В Италии я впервые почувствовала, что можно быть просто счастливой — вне зависимости от того, сбываются твои мечты или нет.
Я много работала. Например, помню, как сидела в архиве в Ассизе, и меня библиотекари по моей просьбе закрывали там на обед, чтобы я могла побольше поработать. Каждый вечер я ходила с огромными авоськами материалов XIX века, у меня было прямо погружение. Это то, как я люблю: загрузив себя вот этой информацией за неделю, я бродила уже потом по местам Святого Франциска...
За второй приезд в Италию я сдала тест международный на знание итальянского языка на пятый уровень из шести. Я тогда не очень понимала, зачем мне вообще этот сертификат, а теперь смеюсь и говорю, что могу даже пингвинам преподавать итальянский язык. Когда я приехала в Казань, именно итальянский язык длительное время меня кормил и обеспечивал.
Италия меня научила не торопиться, не бежать. Вот это странное чувство, когда нам говорят замедлиться, быть в моменте.
Само пространство там тебе говорит: замедлись, получай удовольствие от жизни, посмотри, как всё устроено вокруг.
За второй приезд в Италию я сдала тест международный на знание итальянского языка на пятый уровень из шести. Я тогда не очень понимала, зачем мне вообще этот сертификат, а теперь смеюсь и говорю, что могу даже пингвинам преподавать итальянский язык. Когда я приехала в Казань, именно итальянский язык длительное время меня кормил и обеспечивал.
Италия меня научила не торопиться, не бежать. Вот это странное чувство, когда нам говорят замедлиться, быть в моменте.
Само пространство там тебе говорит: замедлись, получай удовольствие от жизни, посмотри, как всё устроено вокруг.
В Италии у меня появилась такая острая потребность в татарском языке, татарской культуре.
Я стала слушать Камалову, Мубая. С одной стороны, было ощущение, что я абсолютно на своем месте в Италии, и что это абсолютно мой мир, мой способ жизни, а с другой стороны — была уверенность, что я вернусь в Казань. И что мне не хочется ни усилий никаких прилагать, ни искать другой грант, чтобы оставаться в Италии.
Точно могу сказать, что я до Италии и я после Италии — это совершенно два разных человека. Так получилось, что там меня окружали (или я себя окружила) только люди, которые меня любят, которых я люблю, которые мне приятны. Исчезли такие посторонние шумы, исчезли люди с негативными установками, которые хотят принизить или ещё что-то.
Точно могу сказать, что я до Италии и я после Италии — это совершенно два разных человека. Так получилось, что там меня окружали (или я себя окружила) только люди, которые меня любят, которых я люблю, которые мне приятны. Исчезли такие посторонние шумы, исчезли люди с негативными установками, которые хотят принизить или ещё что-то.
оказавшись в новой стране, я поняла, что могу не быть хорошей, не ублажать кого-то, я могу делать так, как я хочу, так как я чувствую, как мне комфортно сегодня.
Это чувство я привнесла и в Казань. Конечно, здесь мне удаётся в меньшей степени этому следовать, потому что я действительно иногда боюсь сказать людям «нет», боюсь обидеть.
С 2005 по 2019 год я работала в Университете, три ректора сменилось. Это было для меня очень важное и удивительное ощущение полёта.
С 2005 по 2019 год я работала в Университете, три ректора сменилось. Это было для меня очень важное и удивительное ощущение полёта.
У меня вообще с детства было ощущение, что я что-то должна хорошее сделать, причём не понимаю, кому должна, но какой-то вклад. Потом я поняла, что мой вклад — это университет.
Я могу хоть как-то влиять на мир таким способом.
Когда я встречалась с новыми людьми, со студентами, у которых нет никаких рамок, которые свободны в прямом смысле этого слова, с которыми можно творить. Для меня университет — это про творчество.
Я когда преподавала, всегда говорила о том, что аура преподавателя уже распалась. У Беньямина есть «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Он там говорит, что, когда картину печатают, штампуют, воспроизводят, у неё исчезает аура. Я вот говорила о том, что аура преподавателя-профессора XIX века — её уже нету. Мы по одну сторону баррикад.
Фактически я преподаю всегда себя и свой взгляд на мир, я студентам говорю: я вам показываю, как я ищу сокровища. Ваша задача — понять, подходит вам это или не подходит, и показать, можете ли вы искать сокровища.
Такое классное чувство сегодня: приходишь в музей, библиотеку, архив, видишь там журналистов, например — и это твои студенты, которые сейчас влияют на жизнь города.
Меня приглашали итальянские университеты — я читала открытые лекции.
Когда я встречалась с новыми людьми, со студентами, у которых нет никаких рамок, которые свободны в прямом смысле этого слова, с которыми можно творить. Для меня университет — это про творчество.
Я когда преподавала, всегда говорила о том, что аура преподавателя уже распалась. У Беньямина есть «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Он там говорит, что, когда картину печатают, штампуют, воспроизводят, у неё исчезает аура. Я вот говорила о том, что аура преподавателя-профессора XIX века — её уже нету. Мы по одну сторону баррикад.
Фактически я преподаю всегда себя и свой взгляд на мир, я студентам говорю: я вам показываю, как я ищу сокровища. Ваша задача — понять, подходит вам это или не подходит, и показать, можете ли вы искать сокровища.
Такое классное чувство сегодня: приходишь в музей, библиотеку, архив, видишь там журналистов, например — и это твои студенты, которые сейчас влияют на жизнь города.
Меня приглашали итальянские университеты — я читала открытые лекции.
В университете Салерно я рассказывала, кто такой Габдулла Тукай и кто такие татары, как выстраивается культурная память и мифология вокруг Тукая.
Когда я читала лекцию для жителей Болоньи о Франциске Ассизском и об Александре Невском, пришли студенты, пенсионеры, люди с собаками — собаки садились рядом (причём они скучных лекторов облаивали), мамы с грудными детьми.
Когда я вернулась в Казань, здесь был такой резкий контраст, довольно сложно было адаптироваться.
Были определённые сложности в университете. Университет начал переформатироваться, было очень некомфортно, было ощущение, что я могу очень много дать университету того опыта, который я получила в Италии, но будто бы он был совершенно не востребован.
Когда я вернулась в Казань, здесь был такой резкий контраст, довольно сложно было адаптироваться.
Были определённые сложности в университете. Университет начал переформатироваться, было очень некомфортно, было ощущение, что я могу очень много дать университету того опыта, который я получила в Италии, но будто бы он был совершенно не востребован.
Пожалуй, это было самое сложное для меня — понять, что я не нужна Казани и университету с этими своими наработками и идеями.
И хотя я ещё привозила по проекту «Алгарыш» профессоров, которые читали моим студентам лекции про особенности выставочной деятельности и про работу с наследием, всё же это было начало конца для меня.
В итоге с момента возвращения из Италии я сделала так, чтобы вокруг меня была Италия: сначала я преподавала на университетских курсах итальянский язык, потом я организовала свои курсы, курс лекций мы с мужем запустили по истории культуры Италии, экскурсии на итальянском.
Манеру общения из Италии я привнесла сюда, хотя я и до этого так делала, если было время: я болтала с продавцами магазинов, с кассирами. Я позволяла себе быть собой.
В университете, когда я заканчивала там работу, всё тянулось очень медленно, как кишки. А когда вот Марья Леонтьева позвала меня в рабочую группу по созданию концепции устойчивого развития исторического поселения Казань, я увидела, как решения очень быстро могут начать реализовываться.
В итоге с момента возвращения из Италии я сделала так, чтобы вокруг меня была Италия: сначала я преподавала на университетских курсах итальянский язык, потом я организовала свои курсы, курс лекций мы с мужем запустили по истории культуры Италии, экскурсии на итальянском.
Манеру общения из Италии я привнесла сюда, хотя я и до этого так делала, если было время: я болтала с продавцами магазинов, с кассирами. Я позволяла себе быть собой.
В университете, когда я заканчивала там работу, всё тянулось очень медленно, как кишки. А когда вот Марья Леонтьева позвала меня в рабочую группу по созданию концепции устойчивого развития исторического поселения Казань, я увидела, как решения очень быстро могут начать реализовываться.
Потребовалось всего лишь полгода, чтобы мэр сказал: «Так, слушайте, круто, есть тема духа города, духа места, давайте соберём людей».
То есть вот эта скорость, с которой возник форум международный в «Смене» по прежде не проблематизированной теме городской и территориальной идентичности именно в смысле развития города — это вот вызвало у меня реакцию: «А так бывает вообще?»
Быстрота и скорость — это связано, конечно, и с тем, что Казань небольшая и люди близко друг к другу, но вообще оказалось, что быстрота и скорость — это часть идентичности Казани, мы такие: шух-шух — и готово.
Я вот сравниваю с самарцами — у них вот течёт, они в своей медитации пока ещё только думают, что делать с историческим центром. Это классно, благодаря этому исторический центр в Самаре сохранился. Мы за это время снесли, построили, теперь думаем, что с этим делать.
Быстрота и скорость — это связано, конечно, и с тем, что Казань небольшая и люди близко друг к другу, но вообще оказалось, что быстрота и скорость — это часть идентичности Казани, мы такие: шух-шух — и готово.
Я вот сравниваю с самарцами — у них вот течёт, они в своей медитации пока ещё только думают, что делать с историческим центром. Это классно, благодаря этому исторический центр в Самаре сохранился. Мы за это время снесли, построили, теперь думаем, что с этим делать.
И это часть идентичности Казани — мы быстрые, мы делаем, мы не боимся ошибаться.
У меня город так и остался, наверное, поделённым на несколько территорий. Когда мне хочется сознательно вернуться в детство, я прямо вот туда погружаюсь. Улица Королёва, Гагарина, Парк Урицкого, хотя я уже его не опознаю как свой — он уже не очень похож на парк моего детства, но дорога к парку дает мне те телесные ощущения, которые я хочу испытать.
Люблю бродить по улочкам: Щапова, Гоголя, Горького, Ульянова-Ленина. Раньше нравилась Старо-Татарская слобода — сейчас я туда поведу гостей города, но не останусь там наедине с собой.
Очень люблю Дубки — это наша Нарния семейная такая, мы туда часто ездим.
Самая любимая улица — Кремлёвская, вот этот прострел от университета до Кремля.
Люблю бродить по улочкам: Щапова, Гоголя, Горького, Ульянова-Ленина. Раньше нравилась Старо-Татарская слобода — сейчас я туда поведу гостей города, но не останусь там наедине с собой.
Очень люблю Дубки — это наша Нарния семейная такая, мы туда часто ездим.
Самая любимая улица — Кремлёвская, вот этот прострел от университета до Кремля.
Кремлевская, мне кажется, ещё не живет своей жизнью. Я всё жду, когда заживёт.
Сегодня у меня был второй урок татарского языка. Моя преподавательница на первом уроке спросила, какие ассоциации у меня вызывает татарский язык, русский, английский, на котором я свободно разговариваю, и итальянский. Татарский язык для меня — это язык мамы, предки, память; русский — воздух и жизнь, английский — работа, он какой-то такой понятный, это про правила и границы — свои и чужие, а про итальянский — я здесь хочу именно на татарском сказать: җан (душа) и диңгез (море).
Мне чакру татарского открыл итальянский язык: я в 30 лет с нуля выучила итальянский за полгода. И я вдруг поняла, что я могу, не зная языка, разговаривать на нём. Например, арабскую вязь я читала, не зная татарского языка, мой преподаватель удивлялся. Поэтому я думаю, что у меня такой кривой путь получился к татарскому через итальянскую средневековую культуру — я вернулась, сделав крюк, и поняла, что для меня это важно.
Каждый раз, когда я оказывалась за пределами Казани, вот этот зов крови, предков и вот эта потребность в языке она вот как-то всплывала. Вообще татарский язык иногда спонтанно подсовывает какие-то слова. Я вот ходила на спектакль «Хава», и было удивительно, что у меня стали выходить какие-то татарские слова, хотя я не думаю на этом языке. Но для меня это всё-таки язык, который я бы хотела себе присвоить.
Мне чакру татарского открыл итальянский язык: я в 30 лет с нуля выучила итальянский за полгода. И я вдруг поняла, что я могу, не зная языка, разговаривать на нём. Например, арабскую вязь я читала, не зная татарского языка, мой преподаватель удивлялся. Поэтому я думаю, что у меня такой кривой путь получился к татарскому через итальянскую средневековую культуру — я вернулась, сделав крюк, и поняла, что для меня это важно.
Каждый раз, когда я оказывалась за пределами Казани, вот этот зов крови, предков и вот эта потребность в языке она вот как-то всплывала. Вообще татарский язык иногда спонтанно подсовывает какие-то слова. Я вот ходила на спектакль «Хава», и было удивительно, что у меня стали выходить какие-то татарские слова, хотя я не думаю на этом языке. Но для меня это всё-таки язык, который я бы хотела себе присвоить.
Интервью — АЛЬБИНА ЗАКИРУЛЛИНА
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)