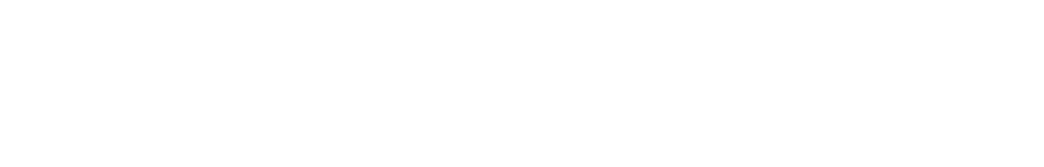Я ИЩУ ПУТИ УВИДЕТЬ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ВИДЯТ
АЛЬФРИД БУСТАНОВ
АЛЬФРИД БУСТАНОВ
Я ИЩУ ПУТи УВИДЕТЬ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ВИДЯТ
Я родился в Омске и, в принципе, как личность сформировался там. Дом, где мы жили, был в Нефтяниках — такой район города. Отец работал на нефтезаводе, который появился в 50-е годы. Поэтому последние блага позднесоветской цивилизации у нас были. Там работали и все наши соседи.
Омск тогда уже был городом-миллионником — он стал им в 1975-м, как раз, я думаю, из-за развития промышленности.
Я в школу в 94-м году пошёл. Криминалитет был, конечно, кто из какого двора и так далее, но вот такое представление, как вот об этих бандах в Казани — всё-таки в Омске я такого не помню.
Наши родители хорошо помнят, например, как все эти переходы — приватизация и всё такое — отразились на заводе. Потому что там директор вдруг зимой решил «поплавать» в Иртыше пьяный и утонул. И с этого времени там начался передел всего и вся.
Омск тогда уже был городом-миллионником — он стал им в 1975-м, как раз, я думаю, из-за развития промышленности.
Я в школу в 94-м году пошёл. Криминалитет был, конечно, кто из какого двора и так далее, но вот такое представление, как вот об этих бандах в Казани — всё-таки в Омске я такого не помню.
Наши родители хорошо помнят, например, как все эти переходы — приватизация и всё такое — отразились на заводе. Потому что там директор вдруг зимой решил «поплавать» в Иртыше пьяный и утонул. И с этого времени там начался передел всего и вся.
Однажды в школе я увидел объявление о том, что Краеведческий музей приглашает в кружок по краеведению. Почему-то мне стало это интересно. Это было в 9-м классе. Я решил сходить, а там ещё и старшеклассники были, и там такая была тусня: кто-то наукой интересовался, кто-то просто приходил пообщаться, словом, было интересно проводить время.
Мне сложно объяснить, почему, но я занимался с самого начала изучением истории Монгольской империи, Золотой орды — это всё меня интересовало.
Может быть (я так думаю ретроспективно) осознание, что мы — татары, во мне всегда было. У меня родители из деревень Омской области, сибирские татары. Вот эти обряды, общение с родственниками — они создавали всё равно вот это ощущение, что ты принадлежишь к какому-то культурному миру, который отличается от того, что тебя окружает вокруг. Это представление «мы и они» сформировалось у меня довольно рано. И я так думаю, вот это ощущение какой-то своей культурной обособленности выливалось вот в этот интерес: откуда это всё идет и куда.
Мне сложно объяснить, почему, но я занимался с самого начала изучением истории Монгольской империи, Золотой орды — это всё меня интересовало.
Может быть (я так думаю ретроспективно) осознание, что мы — татары, во мне всегда было. У меня родители из деревень Омской области, сибирские татары. Вот эти обряды, общение с родственниками — они создавали всё равно вот это ощущение, что ты принадлежишь к какому-то культурному миру, который отличается от того, что тебя окружает вокруг. Это представление «мы и они» сформировалось у меня довольно рано. И я так думаю, вот это ощущение какой-то своей культурной обособленности выливалось вот в этот интерес: откуда это всё идет и куда.
Каждые выходные я ездил в Пушкинскую библиотеку. Только в Москве что-то появится — и это уже можно было в Омске прочитать.
Это, наверное, плоды нефти и нефтеперерабатывающего завода — построили огромную областную библиотеку в 1995-м году.
Я поступил на истфак и с самого начала знал, что хочу продолжать исследования, хочу заниматься наукой. Читал толстые-толстые книги по востоковедению.
На первом курсе я застал старую гвардию тех людей, профессоров, которые основывали исторический факультет в Омске. Археолог Владимир Иванович Матющенко, например, принимал у нас экзамены на первом курсе.
Я видел этих профессоров и понимал, что это такой чистый эталон служения науке. То есть мы здесь не чтобы получать дивиденды от занятий наукой, а мы служим ей, причём такой чистый интерес.
Когда я учился, у меня внутренняя такая была борьба, ну, юношеский максимализм — я видел, например, как защищаются диссертации, и иногда даже по глупости говорил этим людям:
Я поступил на истфак и с самого начала знал, что хочу продолжать исследования, хочу заниматься наукой. Читал толстые-толстые книги по востоковедению.
На первом курсе я застал старую гвардию тех людей, профессоров, которые основывали исторический факультет в Омске. Археолог Владимир Иванович Матющенко, например, принимал у нас экзамены на первом курсе.
Я видел этих профессоров и понимал, что это такой чистый эталон служения науке. То есть мы здесь не чтобы получать дивиденды от занятий наукой, а мы служим ей, причём такой чистый интерес.
Когда я учился, у меня внутренняя такая была борьба, ну, юношеский максимализм — я видел, например, как защищаются диссертации, и иногда даже по глупости говорил этим людям:
«Ну разве ж это диссертация?». Типа: да знаем мы таких докторов наук. Я говорил им это, будучи студентом второго курса. Мне говорили: «Остынь».
— В чём состояла ваша претензия к работам?
— Моя претензия была к системе: что вроде бы как ничего колоссального не происходит, какого-то прорыва. Вот где, где вот этот поиск истины?
И в тоже время, надо отдать должное: были и другие примеры перед глазами. Поскольку меня тематика Золотой Орды интересовала, один из первых авторов, мимо которого я не смог пройти — это Миркасым Усманов, профессор Казанского университета. Он очень много написал работ по истории Золотой Орды, и как-то вот я не мог его не читать. И он, наверное, был одним из таких примеров того, когда происходит что-то крутое.
Помню, я тогда в библиотеке брал каталожные карточки, вот эти ящики, находил там нужный ящик, например, «История России дореволюционной эпохи», и — чик-чик-чик — перебирал эти карточки.
Потом, когда я это прошёл, стал искать старые каталожные ящики и выяснилось, что, оказывается, они отличаются. И там есть старая литература, старые книги, которые не хотят показывать почему-то, и их, эти старые пачки, оставили там и не перенесли в новые ящики.
И вот это ощущение какое-то, ощущение первооткрывателя и доступа к знанию, которое недоступно другому — оно, наверное, мне до сих пор нравится.
— Моя претензия была к системе: что вроде бы как ничего колоссального не происходит, какого-то прорыва. Вот где, где вот этот поиск истины?
И в тоже время, надо отдать должное: были и другие примеры перед глазами. Поскольку меня тематика Золотой Орды интересовала, один из первых авторов, мимо которого я не смог пройти — это Миркасым Усманов, профессор Казанского университета. Он очень много написал работ по истории Золотой Орды, и как-то вот я не мог его не читать. И он, наверное, был одним из таких примеров того, когда происходит что-то крутое.
Помню, я тогда в библиотеке брал каталожные карточки, вот эти ящики, находил там нужный ящик, например, «История России дореволюционной эпохи», и — чик-чик-чик — перебирал эти карточки.
Потом, когда я это прошёл, стал искать старые каталожные ящики и выяснилось, что, оказывается, они отличаются. И там есть старая литература, старые книги, которые не хотят показывать почему-то, и их, эти старые пачки, оставили там и не перенесли в новые ящики.
И вот это ощущение какое-то, ощущение первооткрывателя и доступа к знанию, которое недоступно другому — оно, наверное, мне до сих пор нравится.
Я часто ищу пути, как увидеть то, что другие не видят.
В какой-то момент тематика моих исследований стала дрейфовать в сторону истории ислама в России. Уже на старших курсах университета у меня начались споры с коллегами, споры принципиального характера.
То, что некоторые мои коллеги — ну, тогда это были не коллеги, тогда это были учителя по кафедре — они считали, что то, что я изучаю — это в принципе не ислам, это фольклор, который прикрывается исламской такой оболочкой.
То, что некоторые мои коллеги — ну, тогда это были не коллеги, тогда это были учителя по кафедре — они считали, что то, что я изучаю — это в принципе не ислам, это фольклор, который прикрывается исламской такой оболочкой.
Я говорил, наоборот, мы имеем дело с длительной традицией письменности и исламского дискурса, которую нужно воспринимать всерьёз именно в таком виде.
И в какой-то момент я бы так и остался один на один сам с собой, если бы не ездил в экспедиции, начиная с 2005 года — я там познакомился с очень интересным человеком, тоже выпускником Омского университета — Игорем Владимировичем Беличевым, он жил и работал в Тобольске.
Он разделял мои взглядыи и сам занимался похожими темами — нам постоянно было о чём поговорить. Он гораздо старше меня и гораздо опытнее, и в его лице я нашел для себя наставника неофициального, ну, такого вот шейха.
Игорь Владимирович не был кандидатом наук, так как увлёкся экспедициями и совершенно забыл про карьеру. То есть ему было интересно производить классные тексты, он был мастер текстов, но он не мог это формализовать в диссертацию и, соответственно, не мог быть моим руководителем научным.
И я сначала поехал в Казань, к профессору Усманову, увиделся с ним на истфаке, и он сказал мне: «На меня не рассчитывай, я скоро умру. Скорее всего, тебе придется иметь дело с моими учениками». И он умер через год после нашей встречи. И ещё он сказал: «Вы это, в Петербург попробуйте».
Я поехал в Петербург на стажировку. Тоже было интересно: мне люди со стороны, бизнесмены, помогли два раза по месяцу жить в Петербурге и заниматься рукописями. Мы познакомились на конференции по нумизматике, состоятельные люди, тоже этой темой интересовались. Ну, они мне сказали: «Давай мы тебе поможем». Я всегда вспоминаю то, что они сделали для меня, с большим теплом, потому что я очень многое вынес из этих поездок.
Он разделял мои взглядыи и сам занимался похожими темами — нам постоянно было о чём поговорить. Он гораздо старше меня и гораздо опытнее, и в его лице я нашел для себя наставника неофициального, ну, такого вот шейха.
Игорь Владимирович не был кандидатом наук, так как увлёкся экспедициями и совершенно забыл про карьеру. То есть ему было интересно производить классные тексты, он был мастер текстов, но он не мог это формализовать в диссертацию и, соответственно, не мог быть моим руководителем научным.
И я сначала поехал в Казань, к профессору Усманову, увиделся с ним на истфаке, и он сказал мне: «На меня не рассчитывай, я скоро умру. Скорее всего, тебе придется иметь дело с моими учениками». И он умер через год после нашей встречи. И ещё он сказал: «Вы это, в Петербург попробуйте».
Я поехал в Петербург на стажировку. Тоже было интересно: мне люди со стороны, бизнесмены, помогли два раза по месяцу жить в Петербурге и заниматься рукописями. Мы познакомились на конференции по нумизматике, состоятельные люди, тоже этой темой интересовались. Ну, они мне сказали: «Давай мы тебе поможем». Я всегда вспоминаю то, что они сделали для меня, с большим теплом, потому что я очень многое вынес из этих поездок.
На пятом курсе я получил стипендию от Фонда DAAD — это фонд студенческих образовательных обменов для изучения немецкого языка в Германии.
И вот я поехал, жил месяц во Фрайбурге, учил немецкий язык и заодно там узнавал: вот я хочу продолжать учебу, может быть, здесь есть какие-то стипендии?
И мне сказали, что по моей теме в Амстердаме есть такой профессор Михаэль Кемпер: «Напиши ему, вот адрес, может, он тебе что-то скажет». Я ему написал, и он мне ответил: «Приезжай, если хочешь».
И у меня были сэкономленные деньги, я получил стипендию на проживание в течение месяца в Германии, и оставались деньги на расходы, чтобы есть — ну, там, где-то 500 евро, наверное.
И я вот из этого что-то сэкономил, мне хватило на поезд до Амстердама и обратно, и у меня ещё было три евро в кармане.
И вот я поехал, жил месяц во Фрайбурге, учил немецкий язык и заодно там узнавал: вот я хочу продолжать учебу, может быть, здесь есть какие-то стипендии?
И мне сказали, что по моей теме в Амстердаме есть такой профессор Михаэль Кемпер: «Напиши ему, вот адрес, может, он тебе что-то скажет». Я ему написал, и он мне ответил: «Приезжай, если хочешь».
И у меня были сэкономленные деньги, я получил стипендию на проживание в течение месяца в Германии, и оставались деньги на расходы, чтобы есть — ну, там, где-то 500 евро, наверное.
И я вот из этого что-то сэкономил, мне хватило на поезд до Амстердама и обратно, и у меня ещё было три евро в кармане.
И с этими тремя евро в кармане, вот так зажав, чтобы у меня не украли — потому что, ну, это же психология — я вот так держал, чуть ли не в трусах зашитые три евро (смеётся).
Мы встретились в Амстердаме, погуляли по городу, познакомились. Он, значит, послушал, что я занимаюсь этими генеалогиями, сибирскими легендами по исламизации, подарил свои книжки и, в общем, мы так разошлись.
То есть он не сказал «я тебя беру» или «я тебя не беру», вообще ничего не сказал.
А через пару месяцев прислал письмо, что он выиграл грант на изучение истории советского востоковедения. Говорит: «Если хочешь, подавай заявку».
— И вы подали?
— Для меня это было испытанием, потому что у меня-то была своя тема: я там грезил этими рукописями, изучением сибирской традиции ислама. А тут мне говорят: давай изучай советское востоковедение в Казахстане.
Я такой: как мне быть? Потом взвесил — ну, я тогда поступил в аспирантуру в Омске, и у меня была та же тема. И я подумал: ну ладно, попробуем, что ли.
В общем, я поехал, как-то так получилось, что меня взяли, хотя я не знал английского, у меня был только немецкий. И вообще, наверное, я выглядел как бы не очень — можно ли ожидать от Омского университета такой подготовки, которой достаточно для обучения в аспирантуре в одном из лучших университетов мира?
— Сложно было в Амстердамском университете?
— Первые полгода были просто ужасными: я ничего не понимал, я был одинок абсолютно, у меня не было никого там, даже поплакаться некому (смеётся). Всё было странно для меня: как люди себя ведут, как они разговаривают, что для них правильно, что неправильно.
То есть он не сказал «я тебя беру» или «я тебя не беру», вообще ничего не сказал.
А через пару месяцев прислал письмо, что он выиграл грант на изучение истории советского востоковедения. Говорит: «Если хочешь, подавай заявку».
— И вы подали?
— Для меня это было испытанием, потому что у меня-то была своя тема: я там грезил этими рукописями, изучением сибирской традиции ислама. А тут мне говорят: давай изучай советское востоковедение в Казахстане.
Я такой: как мне быть? Потом взвесил — ну, я тогда поступил в аспирантуру в Омске, и у меня была та же тема. И я подумал: ну ладно, попробуем, что ли.
В общем, я поехал, как-то так получилось, что меня взяли, хотя я не знал английского, у меня был только немецкий. И вообще, наверное, я выглядел как бы не очень — можно ли ожидать от Омского университета такой подготовки, которой достаточно для обучения в аспирантуре в одном из лучших университетов мира?
— Сложно было в Амстердамском университете?
— Первые полгода были просто ужасными: я ничего не понимал, я был одинок абсолютно, у меня не было никого там, даже поплакаться некому (смеётся). Всё было странно для меня: как люди себя ведут, как они разговаривают, что для них правильно, что неправильно.
А что-то, наоборот, было интересно: в Амстердаме у меня было такое ощущение, что это мусульманская страна: везде продают халяль мясо, одежды там арабские. Арабский, турецкий, персидский языки — они просто прямо на улице.
И если в Омске я сформировался как человек, какие-то основы получил, то в Амстердаме моё мировоззрение уже сформировалось, мой взгляд на мир — такой мультикультурный, со свободами, с представлением о том, где границы должны находиться.
Я там много чему научился, но эта учёба — она была через слом, преодоление себя, преодоление дикости. За что я сам себе благодарен, так это за то, что я не стал терять время даром и ходил вообще на всё. Я записался на голландский, учил там английский, в первый же год стал ходить на арабский и на фарси.
— То есть четыре языка учили?
— Ну, да.
— Что вам там нравилось и не нравилось?
Какая-то закрытость там есть, в Голландии. Мне не хватало живого общения, душа в душу. У меня было очень много друзей в Омске, во дворе, в университете, родственники, общение и всё такое. Искреннее, что у нас считается искренностью — когда ты не ради денег, не ради престижа, не ради чего-то, а просто вот по приколу с ними общаться. В Голландии у меня такого не было.
И если в Омске я сформировался как человек, какие-то основы получил, то в Амстердаме моё мировоззрение уже сформировалось, мой взгляд на мир — такой мультикультурный, со свободами, с представлением о том, где границы должны находиться.
Я там много чему научился, но эта учёба — она была через слом, преодоление себя, преодоление дикости. За что я сам себе благодарен, так это за то, что я не стал терять время даром и ходил вообще на всё. Я записался на голландский, учил там английский, в первый же год стал ходить на арабский и на фарси.
— То есть четыре языка учили?
— Ну, да.
— Что вам там нравилось и не нравилось?
Какая-то закрытость там есть, в Голландии. Мне не хватало живого общения, душа в душу. У меня было очень много друзей в Омске, во дворе, в университете, родственники, общение и всё такое. Искреннее, что у нас считается искренностью — когда ты не ради денег, не ради престижа, не ради чего-то, а просто вот по приколу с ними общаться. В Голландии у меня такого не было.
Нельзя сказать, что там появились друзья. Коллеги — да, а вот таких друзей, с которыми можно было там просто помолчать — такого нет, и даже такой культуры там нет.
— Как решили вернуться в Россию?
— В 2013 году я диссертацию защитил. Но я ещё и продолжал свои исследования сибирские и всё больше и больше формировал своё мнение и видение контекста, к чему вот эта культура принадлежит.
И у меня сформировалось какое-то видение татарскости, что ли. Именно научное видение. И я продолжал ездить в Казань и думать, какие дальше материалы можно здесь найти, чтобы их изучать после того, как я защищу диссертацию.
Именно библиотека Казанского университета, Лобачевка, со своим многотысячным собранием татарских рукописей — это было место, в котором, безусловно, я нашел и смыслы, и источники, и всё что хочешь.
И в какой-то момент я себя убедил, что вот я хочу работать в библиотеке, мессианство такое, значит, потому что там есть рукописи, которые никто не изучает. А у меня есть знания, и я могу их здесь приложить.
— В 2013 году я диссертацию защитил. Но я ещё и продолжал свои исследования сибирские и всё больше и больше формировал своё мнение и видение контекста, к чему вот эта культура принадлежит.
И у меня сформировалось какое-то видение татарскости, что ли. Именно научное видение. И я продолжал ездить в Казань и думать, какие дальше материалы можно здесь найти, чтобы их изучать после того, как я защищу диссертацию.
Именно библиотека Казанского университета, Лобачевка, со своим многотысячным собранием татарских рукописей — это было место, в котором, безусловно, я нашел и смыслы, и источники, и всё что хочешь.
И в какой-то момент я себя убедил, что вот я хочу работать в библиотеке, мессианство такое, значит, потому что там есть рукописи, которые никто не изучает. А у меня есть знания, и я могу их здесь приложить.
И я получил докторскую степень Амстердамского университета и переехал в Казанский университет — работать в библиотеке. По-моему, это со стороны выглядит по-идиотски (смеётся).
Я когда переехал в Казань, стал своим родственникам капать на мозги, что по сравнению с Омском Казань — это супергород. И на данный момент мой двоюродный брат, моя двоюродная сестра, мой родной брат, моя мама, наш имам — вот пять семей переехали сюда.
В один момент выяснилось, что я прошёл по конкурсу и получил профессуру в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Я сказал моим коллегам «досвидос» и поехал в Питер. И там жил с 2014 по 2019 год. Мы жили в центре возле мечети, возле Петропавловской крепости. И да, такая культурная среда, вот эти виды открыточные.
Но в то же время цыгане возле Соборной мечети, эта слякоть, когда идешь на работу через Троицкий мост. Вот эта темнота, чернота депрессивная, что сразу хочется сброситься с этого Троицкого моста где-нибудь в декабре. Потому что идёшь — темно, уходишь — темно. Вот это вот всё.
— Что дал вам этот период, Европейский университет?
— Европейский университет меня научил выстраиванию мостов между людьми разных совершенно направлений.
В один момент выяснилось, что я прошёл по конкурсу и получил профессуру в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Я сказал моим коллегам «досвидос» и поехал в Питер. И там жил с 2014 по 2019 год. Мы жили в центре возле мечети, возле Петропавловской крепости. И да, такая культурная среда, вот эти виды открыточные.
Но в то же время цыгане возле Соборной мечети, эта слякоть, когда идешь на работу через Троицкий мост. Вот эта темнота, чернота депрессивная, что сразу хочется сброситься с этого Троицкого моста где-нибудь в декабре. Потому что идёшь — темно, уходишь — темно. Вот это вот всё.
— Что дал вам этот период, Европейский университет?
— Европейский университет меня научил выстраиванию мостов между людьми разных совершенно направлений.
Они мне дали самореализоваться на самом верху иерархической лестницы, что, в принципе, невозможно в мои годы — ну, в 27 лет находиться в профессорской среде и использовать те ресурсы, которые обычно доступны людям в 60 лет.
Интервью — АЛЬБИНА ЗАКИРУЛЛИНА
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ