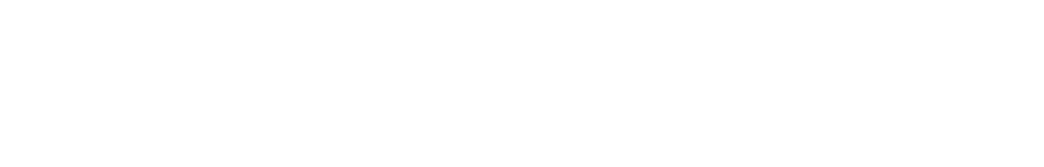ТЕМ, КТО НЕ ЖИЛ ЗА РУБЕЖОМ, СЛОЖНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ
АЙГУЛЬ ДАВЛЕТШИНА
АЙГУЛЬ ДАВЛЕТШИНА
ТЕМ, КТО НЕ ЖИЛ ЗА РУБЕЖОМ, СЛОЖНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ
Айгуль Давлетшина родилась в Тобольске. В 1998-м году её семья переехала в Зеленодольск. Окончив факультет пиара в КАИ, Айгуль долгое время руководила отделом PR в Театре Камала и фонде «Живой город». В 2018-м году она получила стипендию Chevening и поступила в Университет Лондона, Birkbeck College. В феврале 2020-го года на фоне пандемии Айгуль вернулась в Татарстан, присоединилась к проекту Института развития городов РТ и решила остаться в республике.
Айгуль Давлетшина родилась в Тобольске. В 1998-м году её семья переехала в Зеленодольск. Окончив факультет пиара в КАИ, Айгуль долгое время руководила отделом PR в Театре Камала и фонде «Живой город». В 2018-м году она получила стипендию Chevening и поступила в Университет Лондона, Birkbeck College. В феврале 2020-го года на фоне пандемии Айгуль вернулась в Татарстан, присоединилась к проекту Института развития городов РТ и решила остаться в республике.
У меня есть тату — это татарское слово «чиксез», переводится так: «без границ» или «бесконечный». Его мне набила художница испанка в Эдинбурге. Моя близкая подруга Ксюша Шачнева, наполовину русская, наполовину еврейка, живущая в Татарстане, написала это слово на татарском, а испанская художница его набила на моей татарской коже. Само это единение уже доказывает: мир «чиксез», границ нет.
Мне понравилось именно само слово «чиксез» — оно и про бесконечность, и про границы. Плюс я узнала, что в определённом контексте «чиксез» обозначает «человека без тормозов». Это тоже подходит (смеётся).
Мне понравилось именно само слово «чиксез» — оно и про бесконечность, и про границы. Плюс я узнала, что в определённом контексте «чиксез» обозначает «человека без тормозов». Это тоже подходит (смеётся).
Я вернулась в Казань из Лондона в этом году перед первой волной пандемии и уже не могла никуда уехать.
С тех пор мне часто задают вопрос: Айгуль, как ты могла променять Лондон на Казань? И мне очень сложно на этот вопрос ответить.
Я даже удивляюсь, как они такое могут спрашивать. Причём это не близкие друзья, а кто-то, кто меня плохо знает. Для меня же это очевидно и абсолютно нормально. Я очень сильно почувствовала именно весной, когда сюда вернулась, что границы — условные, что это — социальный конструкт. Я могу жить где угодно, могу жить в Великобритании, но сейчас хочу работать в Татарстане.
Мы с Эльзой, моей преподавательницей татарского, тоже обсуждали эту тему. Её часто спрашивают:
Мы с Эльзой, моей преподавательницей татарского, тоже обсуждали эту тему. Её часто спрашивают:
зачем вообще татарский, он как бы умирает, зачем ты его используешь? Она отвечает: чтобы быть счастливой.
Потому что это мой культурный код, это часть меня, это — я. Для неё это тоже настолько очевидно, и для меня тоже в какой-то момент стало очевидно: то, что я получаю здесь — это часть меня, мне хочется отдавать тоже здесь.
Это звучит очень пафосно, но мне действительно хочется делать то, что я умею, в Татарстане. И то, что я узнала в одном из лучших университетов мира — Университете Лондона, Birkbeck College — мне хочется делать именно в месте, которое я считаю своей родной стороной.
Год назад мне уже предлагали работу в Татарстане, и параллельно было предложение из Германии. Я реально составляла списки, делала столбцы, выписывала плюсы, минусы.
И у меня было такое: ну как, я же не могу так просто вернуться назад, это же странно. Причём внутри я понимала: мне хочется вернуться. Но в голове был какой-то «чик». Тогда я была не готова и отказалась от татарстанского предложения.
А потом наступила пандемия, никуда из Татарстана не денешься. В этот момент Наташа Фишман-Бекмамбетова предложила мне поработать с департаментом архитектурных проектов Института развития городов РТ — с малыми городами, с совхозами, деревнями. И мне понравилось. Мы проехали по всей республике: Азнакаево, Зеленодольск, Мензелинск, Нурлат…
Это звучит очень пафосно, но мне действительно хочется делать то, что я умею, в Татарстане. И то, что я узнала в одном из лучших университетов мира — Университете Лондона, Birkbeck College — мне хочется делать именно в месте, которое я считаю своей родной стороной.
Год назад мне уже предлагали работу в Татарстане, и параллельно было предложение из Германии. Я реально составляла списки, делала столбцы, выписывала плюсы, минусы.
И у меня было такое: ну как, я же не могу так просто вернуться назад, это же странно. Причём внутри я понимала: мне хочется вернуться. Но в голове был какой-то «чик». Тогда я была не готова и отказалась от татарстанского предложения.
А потом наступила пандемия, никуда из Татарстана не денешься. В этот момент Наташа Фишман-Бекмамбетова предложила мне поработать с департаментом архитектурных проектов Института развития городов РТ — с малыми городами, с совхозами, деревнями. И мне понравилось. Мы проехали по всей республике: Азнакаево, Зеленодольск, Мензелинск, Нурлат…
ограничитель, граница
Мы общались с горожанами, и я вдруг поняла: такое ощущение от работы не получить нигде, кроме Татарстана. Потому что это место, где я живу, где говорят на языке, который мне глубинно родной.
А ещё ощущение, что ты что-то меняешь — ты можешь приехать и что-то поменять, и ты знаешь, что именно ты можешь изменить.
И ещё потому, что это родина, хотя это не совсем так: я родилась в Тобольске, но мои родители отсюда, из Татарстана.
Вообще, я бы очень хотела отправиться в кар-трип по Татарстану: мне так понравился каждый город республики!
В рамках проекта Института развития городов РТ мы работали с культурными кодами маленьких городов, выясняли, как там живут люди, что они любят, куда ходят, что едят.
И ещё потому, что это родина, хотя это не совсем так: я родилась в Тобольске, но мои родители отсюда, из Татарстана.
Вообще, я бы очень хотела отправиться в кар-трип по Татарстану: мне так понравился каждый город республики!
В рамках проекта Института развития городов РТ мы работали с культурными кодами маленьких городов, выясняли, как там живут люди, что они любят, куда ходят, что едят.
car trip — путешествие на автомобиле
Мы, например, задавали вопрос: а что для вас вкус этого города? Менделеевцы вспоминали бондюжский хлеб. Говорили, что скучают по его вкусу.
И тебе сразу самой хочется его попробовать, вернуться ещё раз специально и попробовать.
Ты учишься у этих горожан, потому что никто, кроме них, не знает, как лучше для их города, никто не знает вкус бондюжского хлеба лучше, чем они.
Ты учишься у этих горожан, потому что никто, кроме них, не знает, как лучше для их города, никто не знает вкус бондюжского хлеба лучше, чем они.
И надо уметь подключаться к этой местной энергии без какой-то колонизаторской истории. Мол, я тут написал диссертацию, знаю лучше.
Нет, лучше, чем сами горожане, никто не сделает.
— Когда и почему ты уехала из Татарстана в Великобританию?
— Я уезжала, когда мне было… Кажется, я была в не совсем осознанном возрасте ещё. Это был 2015 год, сколько мне было лет тогда? 28. Есть какой-то шаблон, что за границами лучше, что если у тебя получится уехать из России, то это достижение. У меня тоже было это мышление. И плюс это был период, когда я познакомилась с Дэвидом, моим будущим мужем, мне в принципе была интересна британская культура.
Я всегда мечтала учиться за границей — не жить там (я не планировала переезжать), а именно учиться.
В 2015 году я уехала в Великобританию, но это была не учёба — я уезжала к Дэвиду. Потом уже я решила подать на грант, но в первый раз делала это неосознанно и не прошла: был список приоритетных направлений, культуры там не оказалось.
На следующий год я подумала: даже если у вас нет в этом перечне культуры, сейчас я вам объясню, почему она важна. И написала заявку на английском с кучей ошибок, но объяснила: ребята, культура в России, в Татарстане очень важна. Почему Кирилла Серебренникова попытались закрыть? Потому что понимают, как театр может влиять на людей, особенно в России. Вот, и я прошла.
В вузе мы очень много говорили о «diversity» — оно не совсем переводится на русский, нечто вроде «разнообразия», «предоставления голоса разным сообществам».
— Когда и почему ты уехала из Татарстана в Великобританию?
— Я уезжала, когда мне было… Кажется, я была в не совсем осознанном возрасте ещё. Это был 2015 год, сколько мне было лет тогда? 28. Есть какой-то шаблон, что за границами лучше, что если у тебя получится уехать из России, то это достижение. У меня тоже было это мышление. И плюс это был период, когда я познакомилась с Дэвидом, моим будущим мужем, мне в принципе была интересна британская культура.
Я всегда мечтала учиться за границей — не жить там (я не планировала переезжать), а именно учиться.
В 2015 году я уехала в Великобританию, но это была не учёба — я уезжала к Дэвиду. Потом уже я решила подать на грант, но в первый раз делала это неосознанно и не прошла: был список приоритетных направлений, культуры там не оказалось.
На следующий год я подумала: даже если у вас нет в этом перечне культуры, сейчас я вам объясню, почему она важна. И написала заявку на английском с кучей ошибок, но объяснила: ребята, культура в России, в Татарстане очень важна. Почему Кирилла Серебренникова попытались закрыть? Потому что понимают, как театр может влиять на людей, особенно в России. Вот, и я прошла.
В вузе мы очень много говорили о «diversity» — оно не совсем переводится на русский, нечто вроде «разнообразия», «предоставления голоса разным сообществам».
Мы очень много говорили о разнообразии, и я как-то себя свободно почувствовала. Именно тогда у меня впервые возникло осознание, что я татарка.
Даже когда я работала в Театре Камала, театр не приносил мне этого ощущения.
И да, я уехала, но удалённо всё равно работала на Татарстан — с фондом «Живой город» и Театром Камала, была менеджером международных отношений театра. Мне хотелось уже тогда расширять границы, я хотела изменить эти жесткие границы между Татарстаном и миром.
— В чём ты видишь эти границы?
— В ощущении, что мы живём только в Татарстане, что мы должны оставаться только здесь, только в России — в нашем образе мышления, в рамках тем, на которые мы говорим, тем, которые мы представляем в театре. А я хочу ощущать себя так, будто я живу во всём мире сразу, но при этом понимая ценность этого конкретного места.
И да, я уехала, но удалённо всё равно работала на Татарстан — с фондом «Живой город» и Театром Камала, была менеджером международных отношений театра. Мне хотелось уже тогда расширять границы, я хотела изменить эти жесткие границы между Татарстаном и миром.
— В чём ты видишь эти границы?
— В ощущении, что мы живём только в Татарстане, что мы должны оставаться только здесь, только в России — в нашем образе мышления, в рамках тем, на которые мы говорим, тем, которые мы представляем в театре. А я хочу ощущать себя так, будто я живу во всём мире сразу, но при этом понимая ценность этого конкретного места.
Тем, кто не жил за рубежом, сложно понять, почему люди возвращаются на родину. И у нас есть… какая-то стигма: если ты возвращаешься, значит, неудачник. Значит, не смог.
Недавно я разговаривала с одной из моих знакомых в Лондоне. Она сама из Челнов, работала в Казани, потом уехала в Великобританию, вышла замуж за англичанина и осталась там. И я ей говорю: «Ты знаешь, я впервые за долгое время прожила пять месяцев подряд в Татарстане, и мне нравится, я хочу остаться и работать здесь».
А она сразу: Айгуль, что случилось? Что у тебя в жизни пошло не так? Мне стало так обидно — то есть, если ты вернулся, значит, у тебя обязательно что-то не так?
Почему-то людям трудно осознать, что возвращение домой является успехом. Возвращение домой с каким-то большим знанием. Для меня то, что я получила какое-то большое знание, и что это было в одном из центров знания в мире искусства... привезти его домой является какой-то... очень важной миссией.
Для себя я уже тогда решила: можно жить счастливо там, где ты можешь сама себе создать комфорт. Если у тебя есть хорошая работа с достойным уровнем оплаты, есть жильё, если ты понимаешь, что тебя не взорвут на улице, пока ты идёшь за хлебом, тогда ты можешь быть счастлив в этом месте.
В Великобритании сейчас невозможно купить жилье, просто невозможно. Там очень неприятная, даже враждебная атмосфера по отношению к иммигрантам. Причём не от людей, которые живут рядом с тобой — они наоборот очень положительно к тебе относятся, — а именно от тех политических решений, которые британцы принимают. У них даже сама эта стратегия называется hostile environment — «враждебная среда».
— Ты сказала, что в Театре Камала ты не чувствовала своей принадлежности к нации. Почему?
— Честно, вообще не рефлексировала на эту тему, не могу понять, почему. В Великобритании такая система образования: ты очень много рефлексируешь прямо на занятии. Главная цель такого типа образования — не дать какие-то знания, а развить критическое мышление, работать над тем, как ты относишься к информации.
Когда я работала в Театре Камала, я не помню, чтобы я рефлексировала в принципе — ни о татарском языке, ни о народе, ни о том, почему мы выбираем эти произведения.
Я спрашивала Ильфира Ильшатовича много раз: «А какова миссия Камаловского театра?» Он говорил: «Сохранение татарского языка». Но почему я этого не чувствовала в репертуаре? В тот момент я не рефлексировала, не обсуждала этот вопрос. Возможно, поэтому я и не чувствовала свою принадлежность к нации.
Для себя я уже тогда решила: можно жить счастливо там, где ты можешь сама себе создать комфорт. Если у тебя есть хорошая работа с достойным уровнем оплаты, есть жильё, если ты понимаешь, что тебя не взорвут на улице, пока ты идёшь за хлебом, тогда ты можешь быть счастлив в этом месте.
В Великобритании сейчас невозможно купить жилье, просто невозможно. Там очень неприятная, даже враждебная атмосфера по отношению к иммигрантам. Причём не от людей, которые живут рядом с тобой — они наоборот очень положительно к тебе относятся, — а именно от тех политических решений, которые британцы принимают. У них даже сама эта стратегия называется hostile environment — «враждебная среда».
— Ты сказала, что в Театре Камала ты не чувствовала своей принадлежности к нации. Почему?
— Честно, вообще не рефлексировала на эту тему, не могу понять, почему. В Великобритании такая система образования: ты очень много рефлексируешь прямо на занятии. Главная цель такого типа образования — не дать какие-то знания, а развить критическое мышление, работать над тем, как ты относишься к информации.
Когда я работала в Театре Камала, я не помню, чтобы я рефлексировала в принципе — ни о татарском языке, ни о народе, ни о том, почему мы выбираем эти произведения.
Я спрашивала Ильфира Ильшатовича много раз: «А какова миссия Камаловского театра?» Он говорил: «Сохранение татарского языка». Но почему я этого не чувствовала в репертуаре? В тот момент я не рефлексировала, не обсуждала этот вопрос. Возможно, поэтому я и не чувствовала свою принадлежность к нации.
директор Театра Камала
— Расскажи про Тобольск, что это за место?
— Был кризис в 80-е, надо было где-то зарабатывать деньги. Әтием получил работу строителем в Тобольске, а он очень крутой мастер в этом деле. Нам дали трёхкомнатную квартиру, мы переехали, там я и родилась.
Мы жили рядом с лесом, әтием ходил на охоту, иногда прямо с ночевкой. Это я сейчас только осознаю: ничего себе, он и зимой, и летом мог там оставаться. Возвращался с охоты с дичью, кроликами, потому что в магазинах мяса не было — кризис.
— Был кризис в 80-е, надо было где-то зарабатывать деньги. Әтием получил работу строителем в Тобольске, а он очень крутой мастер в этом деле. Нам дали трёхкомнатную квартиру, мы переехали, там я и родилась.
Мы жили рядом с лесом, әтием ходил на охоту, иногда прямо с ночевкой. Это я сейчас только осознаю: ничего себе, он и зимой, и летом мог там оставаться. Возвращался с охоты с дичью, кроликами, потому что в магазинах мяса не было — кризис.
папа
В английском языке есть слово «rough», «жесткий». Вот Тобольск — rough городочек. У нас во дворе пацаны ловили белок и отрезали им хвосты себе на брелки.
Моей первой классной руководительницей была сибирская татарка, которая поменяла имя и стала Кларой Николаевной. Я вот не вспомню, какое у неё было настоящее имя. Кажется, Кадрия.
И недавно я услышала историю одной темнокожей блогерши. У неё сложное имя — Узоамака Адуба. В школе её буллили из-за имени. Однажды она пришла домой и говорит маме: я хочу поменять имя, его очень сложно выговаривать. А мама говорит: они научились говорить Чайковский, Достоевский — научатся выговаривать и твоё имя.
И недавно я услышала историю одной темнокожей блогерши. У неё сложное имя — Узоамака Адуба. В школе её буллили из-за имени. Однажды она пришла домой и говорит маме: я хочу поменять имя, его очень сложно выговаривать. А мама говорит: они научились говорить Чайковский, Достоевский — научатся выговаривать и твоё имя.
Англичанам, кстати, было довольно сложно произнести моё имя, но я никогда его не меняла. Я просто объясняла, что Айгуль — это moonflower, лунный цветок. И они сразу: вау!
Мама Дэвида меня так и называет — Flower.
— В Тобольске вы общались с другими татарами?
— Нет, у меня тогда вообще не было никакой связи, не было этого осознания. Хотя до детского сада я вообще не говорила по-русски.
Чётко помню момент, когда пришла в детсад, у меня была воспитательница Ольга Николаевна. И я здоровалась с ней всегда так: «Исәнмесез». Но потом меня переучили.
Когда мы в Тобольске ходили на экскурсии, там не было ни слова про татарскую историю города, все было связано с периодом декабристов, поскольку Тобольск — город ссыльных.
— А ты чувствовала, что ты татарка, что ты отличаешься от других ребят?
— Нет, никто не обращал внимания на моё имя. Самоидентичности, связанной с татарским, вообще не возникало. Причём я знала, что мама и папа всю жизнь для меня әни, әти. Я их так всегда называла, при всех.
— В Тобольске вы общались с другими татарами?
— Нет, у меня тогда вообще не было никакой связи, не было этого осознания. Хотя до детского сада я вообще не говорила по-русски.
Чётко помню момент, когда пришла в детсад, у меня была воспитательница Ольга Николаевна. И я здоровалась с ней всегда так: «Исәнмесез». Но потом меня переучили.
Когда мы в Тобольске ходили на экскурсии, там не было ни слова про татарскую историю города, все было связано с периодом декабристов, поскольку Тобольск — город ссыльных.
— А ты чувствовала, что ты татарка, что ты отличаешься от других ребят?
— Нет, никто не обращал внимания на моё имя. Самоидентичности, связанной с татарским, вообще не возникало. Причём я знала, что мама и папа всю жизнь для меня әни, әти. Я их так всегда называла, при всех.
И была же такая штука, что во дворах кричали родителям, там, скинь воды, скинь мячик. Мы жили на седьмом этаже, и я на весь двор кричала: әни!
мама!
Для окружающих это было смешно, наверное — какая-то девочка кричит непонятно что. Но для меня это было нормально.
Каждое лето мы уезжали в Татарстан, авылга. И я была любимицей бабушки. Мы с ней всегда по-татарски разговаривали, потому что они с дедом не понимали по-русски — такая была деревня. И в конце лета, когда я возвращалась в Тобольск, я снова разговаривала на татарском. Но это довольно скоро проходило.
— Почему вы уехали из Тобольска?
— Наступил ещё один кризис, уже 1998 года. Работы не было, папе выдавали зарплату соковыжималками и книгами. Мы уехали обратно в Татарстан, әтием устроился в КАИ главным мастером, ремонтировал там всё.
А вечером уходил на колхозный рынок — работал дворником. Делал всё, лишь бы были деньги для семьи.
И я приходила к нему помогать, хотя просто ненавидела это дело. Он мне говорил: «Вот это твой ряд, и вот этот твой».
Каждое лето мы уезжали в Татарстан, авылга. И я была любимицей бабушки. Мы с ней всегда по-татарски разговаривали, потому что они с дедом не понимали по-русски — такая была деревня. И в конце лета, когда я возвращалась в Тобольск, я снова разговаривала на татарском. Но это довольно скоро проходило.
— Почему вы уехали из Тобольска?
— Наступил ещё один кризис, уже 1998 года. Работы не было, папе выдавали зарплату соковыжималками и книгами. Мы уехали обратно в Татарстан, әтием устроился в КАИ главным мастером, ремонтировал там всё.
А вечером уходил на колхозный рынок — работал дворником. Делал всё, лишь бы были деньги для семьи.
И я приходила к нему помогать, хотя просто ненавидела это дело. Он мне говорил: «Вот это твой ряд, и вот этот твой».
в деревню
Смешно было, когда в «Бизнес-онлайн» обо мне потом написали: вот, в двадцать лет стала замдиректором театра Камала, наверняка дочка замминистра.
А әнием приехала сюда и сразу же попала на телевидение — никто не знал татарский так, как она. Хотя она не журналистка, педагог по образованию, в Тобольске работала воспитательницей. Но приехала сюда, и её сразу взяли на ТВ. И она до сих пор работает на телевидении в татарской редакции новостей.
Мы жили в Зеленодольске. Я поступила в КАИ на факультет пиара — он был одним из первых в России. Это был очень престижный факультет, даже в КГУ тогда не было такого.
Но я всегда хотела заниматься театром, в Зеленодольске я ходила в театральную студию. И в КАИ думала, как соединить пиар и театр.
Ещё будучи студенткой я начала работать менеджером по продажам в кадровом агентстве. Тогда я наконец смогла себе позволить поехать в Питер — увидела там первую театральную лабораторию, мне понравилось. Вернулась в Казань, сделала такую же, назвала «Выход 68» (хотела назвать просто «Выход», но подруга Алиса Розанова сказала, что это слишком просто и что можно связать с 1968 годом и темой свободы). «Казань, я люблю тебя» был проект, если помнишь.
И всё завертелось. Я пришла к Фариду Рафкатовичу за поддержкой, но он меня развернул. А Нияз Игламов меня сильно поддержал, пошёл к Фариду Рафкатовичу, начал его убеждать.
Мы жили в Зеленодольске. Я поступила в КАИ на факультет пиара — он был одним из первых в России. Это был очень престижный факультет, даже в КГУ тогда не было такого.
Но я всегда хотела заниматься театром, в Зеленодольске я ходила в театральную студию. И в КАИ думала, как соединить пиар и театр.
Ещё будучи студенткой я начала работать менеджером по продажам в кадровом агентстве. Тогда я наконец смогла себе позволить поехать в Питер — увидела там первую театральную лабораторию, мне понравилось. Вернулась в Казань, сделала такую же, назвала «Выход 68» (хотела назвать просто «Выход», но подруга Алиса Розанова сказала, что это слишком просто и что можно связать с 1968 годом и темой свободы). «Казань, я люблю тебя» был проект, если помнишь.
И всё завертелось. Я пришла к Фариду Рафкатовичу за поддержкой, но он меня развернул. А Нияз Игламов меня сильно поддержал, пошёл к Фариду Рафкатовичу, начал его убеждать.
Бикчантаеву (главный режиссёр Театра Камала)
театральный критик, заведующий литературно-драматической частью Театра Камала, арт-директор международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
И Бикчантаев сказал: «Да кто она такая, ни одного имени не знает». А Нияз ему: «У нас других нет, надо поддержать».
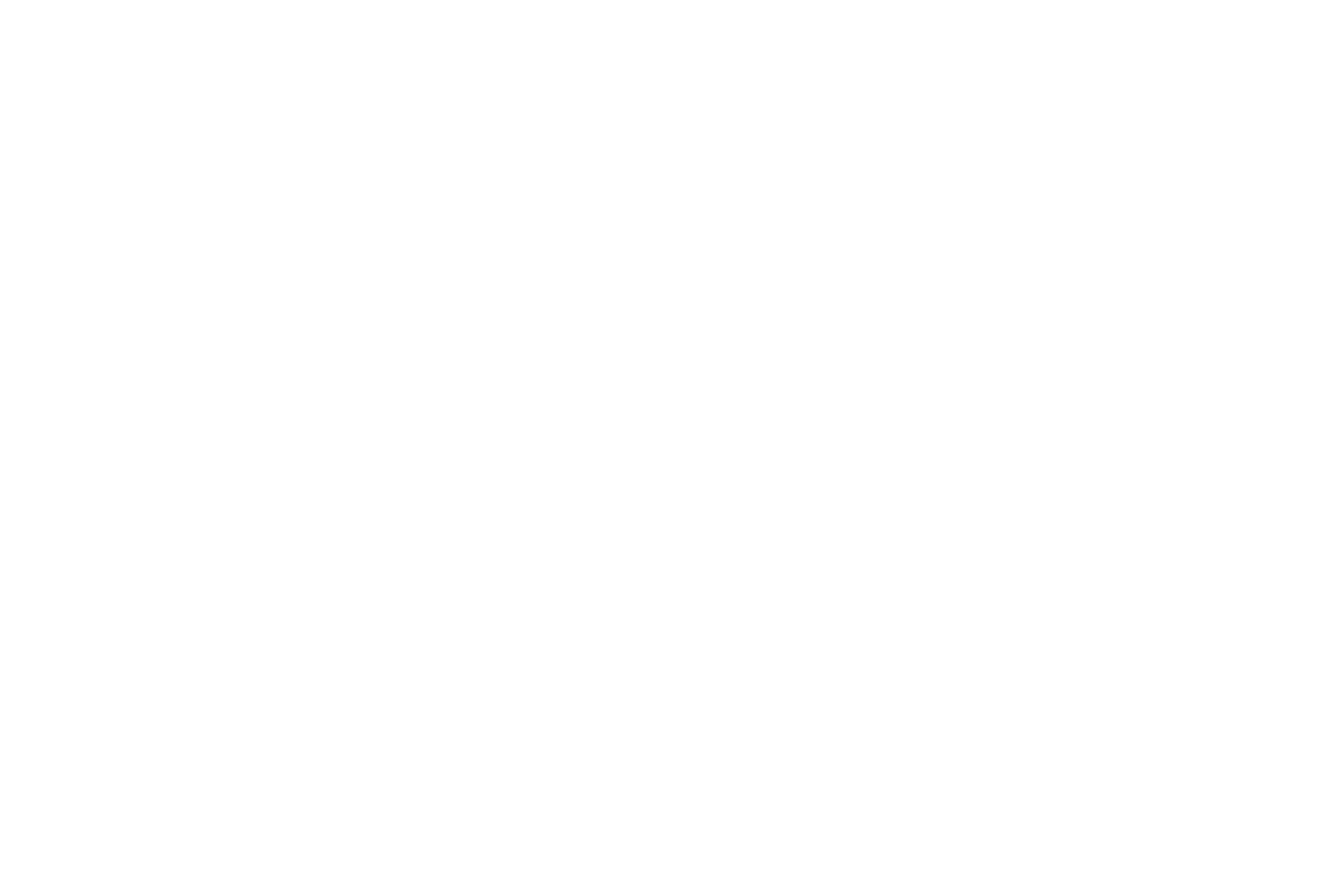
«Однажды летним днём»
И Театр Камала поддержал. Потом я стала там пиар-директором. Моей первой кампанией была работа с «Җәйнең бер көнендә». И это моя самая любимая пиар-кампания. Я помню, как мы писали ролик, где Люция Хамитова ведёт трамвай, а Алмаз Гараев прыгает с парашютом. Мы хотели показать, что мы делаем что-то суперновое для театра, что для Театра Камала это так же ново, как для Люции Хамитовой водить трамвай или для Лейсан Файзуллиной рубить мясо.
И я старалась так подойти к каждому спектаклю, но скоро поняла: уже не могу, не успеваю, не дотягиваю до определенного уровня, которого хочу добиться.
И ещё осознание, что пиарщик создает смыслы, но не сам культурный объект. А мне очень хотелось влиять на этот объект.
Например, мы делали рекламный ролик для «Ходжи Насретдина» и нашли ослика. Я говорю: давайте сделаем всю кампанию, будто бы Ходжа все время путешествует на ослике и прямо к премьере прибывает в Казань. В итоге Фарид Рафкатович этого ослика решил взять в спектакль.
И я поняла, что мне понравилось влиять. И что пиар уже немножко узковат для меня. Но это не значит, что я все узнала в пиаре, это было далеко не так.
— Расскажи, как ты пришла в фонд «Живой город»?
— В Театре Камала мы с Ниязом сидели в одном кабинете. И как-то к нему начала приходить Инна Яркова — соучредитель фонда «Живой город». И они постоянно что-то обсуждали. Я думала: «Что там за проекты, интересно, что за Инна такая?» В какой-то момент для их затеи понадобился пиарщик, и Нияз посоветовал меня.
Я взялась за это. Но не из-за денег — мне просто было интересно. И плюс когда ты долго работаешь в штате какой-то институции, ты начинаешь зарастать мхом. А здесь что-то новое.
Появление «Живого города» вообще стало вехой для Татарстана. В том числе и для пиарщиков — появилось совсем иное направление театра.
— В чём принципиальная разница пиара в «Живом городе» и Театре Камала?
— Я бы не сказала, что есть какое-то кардинальное различие: и там, и там я использовала те же инструменты пиара. Но у первого, у «Угла», проектный метод работы. То есть на каждую постановку собирается новая команда — режиссёр, актёры. Поэтому это всегда новая динамика.
И я старалась так подойти к каждому спектаклю, но скоро поняла: уже не могу, не успеваю, не дотягиваю до определенного уровня, которого хочу добиться.
И ещё осознание, что пиарщик создает смыслы, но не сам культурный объект. А мне очень хотелось влиять на этот объект.
Например, мы делали рекламный ролик для «Ходжи Насретдина» и нашли ослика. Я говорю: давайте сделаем всю кампанию, будто бы Ходжа все время путешествует на ослике и прямо к премьере прибывает в Казань. В итоге Фарид Рафкатович этого ослика решил взять в спектакль.
И я поняла, что мне понравилось влиять. И что пиар уже немножко узковат для меня. Но это не значит, что я все узнала в пиаре, это было далеко не так.
— Расскажи, как ты пришла в фонд «Живой город»?
— В Театре Камала мы с Ниязом сидели в одном кабинете. И как-то к нему начала приходить Инна Яркова — соучредитель фонда «Живой город». И они постоянно что-то обсуждали. Я думала: «Что там за проекты, интересно, что за Инна такая?» В какой-то момент для их затеи понадобился пиарщик, и Нияз посоветовал меня.
Я взялась за это. Но не из-за денег — мне просто было интересно. И плюс когда ты долго работаешь в штате какой-то институции, ты начинаешь зарастать мхом. А здесь что-то новое.
Появление «Живого города» вообще стало вехой для Татарстана. В том числе и для пиарщиков — появилось совсем иное направление театра.
— В чём принципиальная разница пиара в «Живом городе» и Театре Камала?
— Я бы не сказала, что есть какое-то кардинальное различие: и там, и там я использовала те же инструменты пиара. Но у первого, у «Угла», проектный метод работы. То есть на каждую постановку собирается новая команда — режиссёр, актёры. Поэтому это всегда новая динамика.
А театр Камала — это репертуар, труппа. Это в каком-то смысле конвейер — государственный театр, который обязан сдать столько-то премьер.
И чисто физически ты не можешь каждую премьеру протянуть как отдельный проект.
— Решив остаться в России, ты чётко выбирала Казань или были другие варианты?
— Кроме Казани, в России я бы выбрала разве что Питер. По-другому себя чувствуешь в Питере, у него свой характер, как и у Казани.
— Решив остаться в России, ты чётко выбирала Казань или были другие варианты?
— Кроме Казани, в России я бы выбрала разве что Питер. По-другому себя чувствуешь в Питере, у него свой характер, как и у Казани.
Казань, наверное, такая же, как я — она двойная. Одной ногой продвинутая и стремится куда-то в будущее, другой — очень консервативная и закрытая.
Знаешь, есть большая разница между стратегией Минкульта и результатами исследования, которое я провела. Минкульт постоянно твердил про сохранение, сохранение и ещё раз сохранение. Но каждый эксперт, с которым я общалась, говорил про развитие, что нужна динамика, движение. Это такой диссонанс.
Как-то раз в Лондоне я была на встрече местного татарского сообщества. И узнала, что для них важно прийти в национальном наряде, танцевать, есть татарские блюда. А мне это не нужно.
Те, кто уехал из страны в 90-е, они все ещё представляют себе ту Россию, поют песни того периода, смотрят фильмы. Это своего рода сохранение, музеефикация: ты увёз свою культуру и сохраняешь, как экспонат. Но это мешает её развитию. Потом оно само устаревает, становится чуждым.
Как-то раз в Лондоне я была на встрече местного татарского сообщества. И узнала, что для них важно прийти в национальном наряде, танцевать, есть татарские блюда. А мне это не нужно.
Те, кто уехал из страны в 90-е, они все ещё представляют себе ту Россию, поют песни того периода, смотрят фильмы. Это своего рода сохранение, музеефикация: ты увёз свою культуру и сохраняешь, как экспонат. Но это мешает её развитию. Потом оно само устаревает, становится чуждым.
Мне нравится мысль, что татарам, чтобы перейти к развитию, надо перестать бояться исчезновения. Когда страх исчезнуть уйдет, можно будет по-другому посмотреть на культуру, по-другому о ней говорить.
И раз уж мы заговорили об исчезновении. Пока я сидела на карантине, у меня возникла ещё одна теория. Я её рассказала одному другу, он попросил написать на эту тему блог. Есть такая гипотеза о памяти народа, что каждый представитель нации каким-то образом передаёт память о том, что происходило.
Короче, мне кажется, у татар есть какая-то связь между между собой, именно между мужчинами и женщинами. Как будто в памяти народа стоит какая-то задача, запрограммированность развиваться дальше и размножаться. Я вернулась в Татарстан и не ожидала такого бурного интереса со стороны татарских мужчин (смеётся).
Причём это есть и на осознанном уровне, когда родители говорят, чтобы жених обязательно «татар булсын» («был татарином»). Но есть ещё и неосознанная тяга.
Каждый раз на «Алифе» я начинаю почему-то рыдать и не могу понять, почему, откуда у меня такие эмоции.
И вот сейчас пытаюсь разобраться. Скорее всего, такое ощущение возникает именно потому, что это — часть нас.
Короче, мне кажется, у татар есть какая-то связь между между собой, именно между мужчинами и женщинами. Как будто в памяти народа стоит какая-то задача, запрограммированность развиваться дальше и размножаться. Я вернулась в Татарстан и не ожидала такого бурного интереса со стороны татарских мужчин (смеётся).
Причём это есть и на осознанном уровне, когда родители говорят, чтобы жених обязательно «татар булсын» («был татарином»). Но есть ещё и неосознанная тяга.
Каждый раз на «Алифе» я начинаю почему-то рыдать и не могу понять, почему, откуда у меня такие эмоции.
И вот сейчас пытаюсь разобраться. Скорее всего, такое ощущение возникает именно потому, что это — часть нас.
И когда мы отказываемся от части себя, мы думаем, что всё нормально, не чувствуем ничего. А когда мы её снова добавляем или в себе раскрываем, мы себя чувствуем более полноценными. Я, по крайней мере, чувствую так. Эти полгода, что я работаю здесь, я чувствую себя более наполненной.
Но это ощущение трудно объяснить другим, передать его даже самым близким людям. Дэвид — музыкант, очень долго играл в группе. Я дала ему послушать «Ак калфак». Он слушает и говорит: очень круто, похоже на английскую народную песню «Scarborough fair» («Ярмарка в Скарборо»). Я потом послушала — и правда, похожи мотивы и тоже про ярмарку. При этом, конечно, он не испытывает тех же эмоций, что и я.
Это что-то на подкорке. То, что важно в себе не забывать. Потому что с этим чувством мы будем счастливее. У многих из нас его отключили: отключили потребность говорить на татарском, делать что-то, что связано с татарским. Отключили, и у нас нет ощущения, что чего-то не хватает — у меня, допустим, не было такого ощущения. Но когда ты эту функцию снова включаешь, ты понимаешь: вот теперь ты счастлив.
Это что-то на подкорке. То, что важно в себе не забывать. Потому что с этим чувством мы будем счастливее. У многих из нас его отключили: отключили потребность говорить на татарском, делать что-то, что связано с татарским. Отключили, и у нас нет ощущения, что чего-то не хватает — у меня, допустим, не было такого ощущения. Но когда ты эту функцию снова включаешь, ты понимаешь: вот теперь ты счастлив.
Интервью — ЙОЛДЫЗ МИННУЛЛИНА, Эльнар БАЙНАЗАРОВ
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)
Фото — ДАНИИЛ ШВЕДОВ
Режиссёр — Ильшат Рахимбай
Оператор — Руслан фахретдинов (ADEM MEDIA)